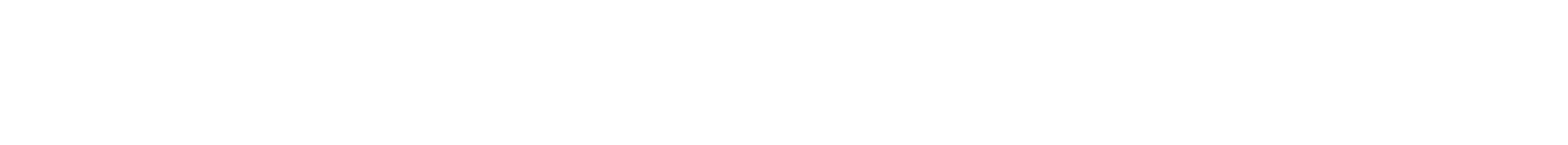Впервые опубликовано в журнале поэзии «Плавучий мост».
Несмотря на то, что жанр этой книги не имеет ничего общего с занимательностью, занимательный элемент постоянно присутствует. Для меня, по крайней мере. По роду деятельности приходится читать много рецензий. Процентов семьдесят не оставляет и следа. Имя и вес критика здесь ни при чём. «При чём» — целостный взгляд на рецензируемое произведение. Это — в дефиците. Кусочек о том, наблюдение о сём, это школа Пастернака, а здесь угадывается Цветаева. Лоскутки, лоскутки, лоскутки без проникновения в художественную систему, только в обрывки художественной ткани.
«О стихах и стихиях» — совершенно другая книга. Она на грани поэзии, эссеистики и аналитики. Но, в первую очередь, это книга поэта о поэтах. Только поэт способен на такое неэвклидово видение чужого художественного пространства, такую свободу, раскованность и независимость изложения.
Дивный мир поэзии в сферическом преломлении четырёх стихий (земля, огонь, воздух, вода) предстаёт по мере движения от одной главы к другой. Каждый поэт ассоциируется с той или иной стихией. Владимир Гандельсман, например, — «воплощённая стихия воздуха». К той же стихии причисляет себя и автор книги («Я родилась под знаком близнецов, поэтому стихия воздуха — моя родная стихия»). Её интерпретация этой стихии — в полном соответствии с тем ощущением свободы авторского самовыражения, которое возникает при чтении её стихов и рецензий:
«Идеальный дом или место обитания — в моём представлении, то место, где много пространства, света, объёма, дающих ощущение свободы. За неимением такого физического места обитания я ищу его в иных местах и, бывает, нахожу — в стихах особого рода поэтов, живущих на земле, но рождённых на небе».
Двадцать глав — двадцать миров, не повторяющихся, объединённых только методом, в основе которого лежит тоже уникальное — поэтическая интуиция. Она управляет методом, базирующимся на классификации стихов «по их принадлежности к той или иной стихии». Почему так? Да потому что в отличие от стихотворчества поэзия является «продолжением личности автора», а значит, анализировать следует, в первую очередь, не внешнее — не приём, преемственность и пр. — а сущностное, внутреннее, отвечающее за «особую интонацию, текстуру и даже историю». «Сама не знаю почему, но все стихи я теперь классифицирую по их принадлежности к той или иной стихии», — пишет Севрюгина, выделяя четыре основные стихии и выстраивая вокруг них структуру книги и анализ поэтического текста. Но самое интересное, как именно она это делает, на чём основываются её выводы о принадлежности творений поэта к той или иной стихи.
Во главу угла Елена Севрюгина ставит принцип субъективности («Как я определяю природу того или иного поэтического текста? Однозначно сказать трудно — вероятно, это тоже высшая интуиция»).
Севрюгина очень интересно поясняет свой процесс классификации поэтических текстов. Поначалу она задаёт ориентиры. К ним относится «направленность художественного взгляда автора», как она это видит. Её разработки заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее, так как они могут быть в дальнейшем использованы и развиты теми, кого заинтересует этот метод.
Особо интересны нюансы, оттенки, позволяющие увидеть специфические особенности поэтического текста.
«Кстати, земля (почва) тоже бывает разная — глубокий грунт или же поверхностный слой, тяготеющий к чему-то находящемуся выше. Земля «высокая» и «низкая» — пожалуй, так можно было бы разграничить стихи подобной категории».
Это требует особой пристальности от исследователя, уподобленного путешественнику, перед которым открывается неизведанный, чуть ли не инопланетный ландшафт.
«А бывает, что в поэтическом слове ощущается рвущаяся наружу огненная энергия вулканического происхождения. Такие тексты обладают мощной созидательной силой — слова как будто сами продуцируют новые смыслы, миры и даже вселенные. Эту энергию ничем не унять — она стремится к бесконечности и непрерывности форм самовыражения, черпая силы из самой природы в её стихийных формах существования».
Ещё один немаловажный ракурс связан с воздействием художественного пространства на читателя. Отсюда берёт начало взаимодействие с текстом, без чего не состоится проникновение в его «плоть и кровь».
«Есть стихи, от чтения которых начинает укачивать — они погружают тебя куда-то на самое дно: души, колодца, марианской впадины. Головокружение и резкий перепад давления гарантированы, так что запасайтесь на будущее батискафами. И то не факт, что поможет. Поэты, создающие подобные тексты, сродни шаманам. Их удел — непрерывная рефлексия, камлание и отрешённость от мира, обращение к собственным первоистокам».
Книга захватывает. При этом Севрюгина не вводит никаких интригующих приёмов, ни с кем не заигрывает — ни с читателем, ни с автором. Она пишет о том, что ей любо. Именно так. Каждая новая глава — как новая влюблённость. Севрюгина и не скрывает, что увлекается, притом настолько, что иногда сбивается с намеченного курса. «Но я что-то увлеклась. Речь пойдёт совсем о другом стихотворении». Так можно написать, когда совершенно свободен, когда полностью ощущаешь себя в материале, а материал в себе. И пишешь о чужом поэтическом тексте, как о своём — «о том, что мы несём внутри себя и “лелеем” как значимую часть личного опыта, как духовное воплощение нас самих. Потому что всё, что мы есть на самом деле, всегда находится за пределами видимости».
Как в стихах, так и в рецензиях, Севрюгина совершенно свободна, раскованна, захвачена художественным миром того, о ком пишет, его изменчивостью и новизной. Она движется в атмосфере каждого текста, проникая во все его пласты, как воздух, не знающий преград. И это — в полном соответствии с тем, как она сама себя воспринимает.
«Но лично мне ближе всего поэты воздушной стихии. Их мысленный взгляд всегда обращён вверх. Они сами легки и воздушны, как легки и воздушны слова, из которых ткётся их беспримесное, прозрачное поэтическое полотно. Такие стихи всегда ощущаются в терминах высоты, пространства и связанной с ним побочной характеристики — протяжённости. Нередко это звучащая вселенная, поскольку именно звук освобождает слово от сковывающей его грамматической оболочки. Все указанные свойства, помноженные на талант, дают эффект безграничной свободы, преобразующей поэта в демиурга, зачинателя новых миров и цивилизаций. Чем выше концентрация звуков-первосмыслов, тем выше полёт творческой мысли, проходящей через нижние слои воздуха к самой стратосфере. Такую вершину мало кому дано осилить, но тот, кто осилит, становится повелителем речи. Метареализм — современное поэтическое направление, в границах которого можно разгуляться поэтам подобного рода».
У Севрюгиной редкое чутьё инакости поэта. Она бережно относится к самобытности, не пытаясь «притулить» пишущего к тому или иному классику, и в этом ей помогает как методология, так и замечательно разработанная методика.
Вера Зубарева
За пределами видимости
Елена Севрюгина. — О стихах и стихиях. М.: Синяя гора, 2024. — 144 с.
Несмотря на то, что жанр этой книги не имеет ничего общего с занимательностью, занимательный элемент постоянно присутствует. Для меня, по крайней мере. По роду деятельности приходится читать много рецензий. Процентов семьдесят не оставляет и следа. Имя и вес критика здесь ни при чём. «При чём» — целостный взгляд на рецензируемое произведение. Это — в дефиците. Кусочек о том, наблюдение о сём, это школа Пастернака, а здесь угадывается Цветаева. Лоскутки, лоскутки, лоскутки без проникновения в художественную систему, только в обрывки художественной ткани.
«О стихах и стихиях» — совершенно другая книга. Она на грани поэзии, эссеистики и аналитики. Но, в первую очередь, это книга поэта о поэтах. Только поэт способен на такое неэвклидово видение чужого художественного пространства, такую свободу, раскованность и независимость изложения.
Дивный мир поэзии в сферическом преломлении четырёх стихий (земля, огонь, воздух, вода) предстаёт по мере движения от одной главы к другой. Каждый поэт ассоциируется с той или иной стихией. Владимир Гандельсман, например, — «воплощённая стихия воздуха». К той же стихии причисляет себя и автор книги («Я родилась под знаком близнецов, поэтому стихия воздуха — моя родная стихия»). Её интерпретация этой стихии — в полном соответствии с тем ощущением свободы авторского самовыражения, которое возникает при чтении её стихов и рецензий:
«Идеальный дом или место обитания — в моём представлении, то место, где много пространства, света, объёма, дающих ощущение свободы. За неимением такого физического места обитания я ищу его в иных местах и, бывает, нахожу — в стихах особого рода поэтов, живущих на земле, но рождённых на небе».
Двадцать глав — двадцать миров, не повторяющихся, объединённых только методом, в основе которого лежит тоже уникальное — поэтическая интуиция. Она управляет методом, базирующимся на классификации стихов «по их принадлежности к той или иной стихии». Почему так? Да потому что в отличие от стихотворчества поэзия является «продолжением личности автора», а значит, анализировать следует, в первую очередь, не внешнее — не приём, преемственность и пр. — а сущностное, внутреннее, отвечающее за «особую интонацию, текстуру и даже историю». «Сама не знаю почему, но все стихи я теперь классифицирую по их принадлежности к той или иной стихии», — пишет Севрюгина, выделяя четыре основные стихии и выстраивая вокруг них структуру книги и анализ поэтического текста. Но самое интересное, как именно она это делает, на чём основываются её выводы о принадлежности творений поэта к той или иной стихи.
Во главу угла Елена Севрюгина ставит принцип субъективности («Как я определяю природу того или иного поэтического текста? Однозначно сказать трудно — вероятно, это тоже высшая интуиция»).
Севрюгина очень интересно поясняет свой процесс классификации поэтических текстов. Поначалу она задаёт ориентиры. К ним относится «направленность художественного взгляда автора», как она это видит. Её разработки заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее, так как они могут быть в дальнейшем использованы и развиты теми, кого заинтересует этот метод.
Особо интересны нюансы, оттенки, позволяющие увидеть специфические особенности поэтического текста.
«Кстати, земля (почва) тоже бывает разная — глубокий грунт или же поверхностный слой, тяготеющий к чему-то находящемуся выше. Земля «высокая» и «низкая» — пожалуй, так можно было бы разграничить стихи подобной категории».
Это требует особой пристальности от исследователя, уподобленного путешественнику, перед которым открывается неизведанный, чуть ли не инопланетный ландшафт.
«А бывает, что в поэтическом слове ощущается рвущаяся наружу огненная энергия вулканического происхождения. Такие тексты обладают мощной созидательной силой — слова как будто сами продуцируют новые смыслы, миры и даже вселенные. Эту энергию ничем не унять — она стремится к бесконечности и непрерывности форм самовыражения, черпая силы из самой природы в её стихийных формах существования».
Ещё один немаловажный ракурс связан с воздействием художественного пространства на читателя. Отсюда берёт начало взаимодействие с текстом, без чего не состоится проникновение в его «плоть и кровь».
«Есть стихи, от чтения которых начинает укачивать — они погружают тебя куда-то на самое дно: души, колодца, марианской впадины. Головокружение и резкий перепад давления гарантированы, так что запасайтесь на будущее батискафами. И то не факт, что поможет. Поэты, создающие подобные тексты, сродни шаманам. Их удел — непрерывная рефлексия, камлание и отрешённость от мира, обращение к собственным первоистокам».
Книга захватывает. При этом Севрюгина не вводит никаких интригующих приёмов, ни с кем не заигрывает — ни с читателем, ни с автором. Она пишет о том, что ей любо. Именно так. Каждая новая глава — как новая влюблённость. Севрюгина и не скрывает, что увлекается, притом настолько, что иногда сбивается с намеченного курса. «Но я что-то увлеклась. Речь пойдёт совсем о другом стихотворении». Так можно написать, когда совершенно свободен, когда полностью ощущаешь себя в материале, а материал в себе. И пишешь о чужом поэтическом тексте, как о своём — «о том, что мы несём внутри себя и “лелеем” как значимую часть личного опыта, как духовное воплощение нас самих. Потому что всё, что мы есть на самом деле, всегда находится за пределами видимости».
Как в стихах, так и в рецензиях, Севрюгина совершенно свободна, раскованна, захвачена художественным миром того, о ком пишет, его изменчивостью и новизной. Она движется в атмосфере каждого текста, проникая во все его пласты, как воздух, не знающий преград. И это — в полном соответствии с тем, как она сама себя воспринимает.
«Но лично мне ближе всего поэты воздушной стихии. Их мысленный взгляд всегда обращён вверх. Они сами легки и воздушны, как легки и воздушны слова, из которых ткётся их беспримесное, прозрачное поэтическое полотно. Такие стихи всегда ощущаются в терминах высоты, пространства и связанной с ним побочной характеристики — протяжённости. Нередко это звучащая вселенная, поскольку именно звук освобождает слово от сковывающей его грамматической оболочки. Все указанные свойства, помноженные на талант, дают эффект безграничной свободы, преобразующей поэта в демиурга, зачинателя новых миров и цивилизаций. Чем выше концентрация звуков-первосмыслов, тем выше полёт творческой мысли, проходящей через нижние слои воздуха к самой стратосфере. Такую вершину мало кому дано осилить, но тот, кто осилит, становится повелителем речи. Метареализм — современное поэтическое направление, в границах которого можно разгуляться поэтам подобного рода».
У Севрюгиной редкое чутьё инакости поэта. Она бережно относится к самобытности, не пытаясь «притулить» пишущего к тому или иному классику, и в этом ей помогает как методология, так и замечательно разработанная методика.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22