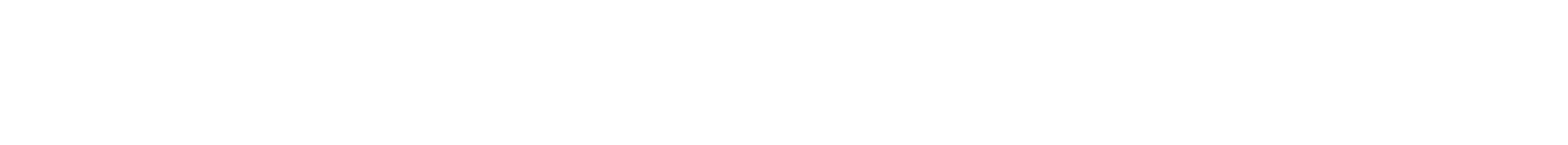Впервые опубликовано в журнале Prosodia.
Не просто же так Александр Переверзин в «Литературных итогах 2024 года» (опубликованы в журнале «Формаслов») ошибочно назвал «Между прошлым» избранным. Но это не избранное: книгу составили стихотворения, написанные с 2016 по 2024 гг. Это всего 8 лет, а такое ощущение, что началась она очень давно: внушителен не формальный объём, а объём жизни, уложенной в 300 страниц поэтического текста: жизнь героя, его семьи, его друзей, его страны, наконец. Здесь много прошлого, это понятно уже из названия: нулевые, 90-е, СССР. Только прошлое и прекрасно, а настоящее такое, что, наверное, лучшего визуального ряда, чем мунковский «Крик», размещённый на обложке, и не подберёшь. Баранов отнюдь не идёт по пути эскапизма — в разделах «Вынес мусор» и «Между прошлым» он остросоциален, но всё-таки уход в прошлое — тоже вариант спасения от всего того, что преподносит человеку сегодняшний день.
Прошлое — такое время, которое не кончается, его можно хоть сколько длить. Обрастая новыми подробностями в наших воспоминаниях, оно превращается в бесконечное кино. Взять хотя бы первое стихотворение книги: «тогда» намного важнее, чем «сейчас», словно вся жизнь и осталась в этом «тогда». Прошлое как будто бы заслоняет собой настоящее, вытесняет его, причём какие-то приметы минувшего всё ещё продолжают своё существование, став памятниками эпохи (или её призраками), — например, «котельная, оставшаяся от СССР-а».
Время в этой книге тесно связано с пространством, личная история человека — с историей места. С одной стороны, география здесь не особо важна. В «почти что умершем городе» Андрея Баранова узнаётся любой провинциальный город — другого будущего у провинции нет (то есть будущего у неё в принципе нет): пруд зарастает травой, завод умолкает. Напрашивается параллель с поэтами почвеннического/неопочвеннического толка, но, конечно, творчество Баранова к почвенничеству не сводится: это лишь грань поэтики.
С другой стороны, география весьма важна: один из главных героев книги — город Сарапул, что в Удмуртской Республике, — насквозь заводской: «…сугробы сквозь ведут к заводу. / Здесь больше некуда идти». Нельзя сказать, что Сарапул на карте современной поэзии не значится вообще: он известен как город Алексея Сомова. Но Сомов шёл по пути мифологизации региона, поэтому и Сарапул превратился у него в Тугарин. Баранов, напротив, фактографически точен, документален в изображении быта — городского, заводского, частного. Это такая поэзия повседневности, сотканная из деталей, подробностей «простой, обычной, в общем-то, жизни» — жизни почти мещанской, обывательской и счастливой. Поэтому многого не надо — достаточно маленького провинциального города, где, словами Баранова, сказанными совсем о другом, «ничего нет», но «всё есть». Вспоминается Тимур Кибиров и его «Леночка, будем мещанами…» Но если герой Кибирова смотрит в будущее, то герой Баранов — в прошлое: мещанское счастье осталось в минувшем столетии, когда были «молоды все и живы»: «Счастье не то, чтобы где-то, оно прямо здесь — есть / борщ на веранде с зеленью, красное пить сухое». Ностальгическая интонация роднит Баранова с Евгением Кремчуковым, да и тема семьи, семейственности важна для обоих. Только Кремчуков по-хорошему сентиментален, в то время как Баранов часто ироничен и даже резок: да, прошлое не идеализируется, но о нём говорится хорошо (а иначе — ничего!), хотя и здесь Баранов не брезгует крепким словцом. Однако ведь и оно может звучать весело и безобидно, тем более, когда речь идёт, например, о выдающихся способностях рабочего класса: «Всё может сделать из говна / шлифовщик высшего разряда!» А вот настоящее заслуживает других слов.
Герой Баранова — это такой современный Одиссей, который то покидает родной город, то возвращается в него, поэтому он давно уже не совсем свой: «я здесь, примазавшийся с боку, / не свой и сам собой гоним». Взгляд часто трезво-беспощадный: «На малой родине сугробы / и колеи, куда ни йду. / Я не обязан ей до гроба / башкою грохаться на льду!» И этот взгляд касается всего. Герой — средний человек, слишком средний, даже серый, скучный, «что у метро окурки / неотличимый от других». Но при этом он рефлексирующий: такой вот средний человек, жующий «курочку из KFC» и размышляющий над событиями эпохального масштаба. Он ничем не выделяется — он думает и оценивает, но мысль, как известно, невидима.
Книга «Между прошлым» далеко не только про прошлое и отношения героя с малой родиной. Она на самом деле про отношения человека с современностью: на фоне прошлого контраст ярче.
Трезво-беспощадная интонация, местами циничная, сопряжённая с тоскливо-безысходной нотой, пронизывает многие стихотворения Андрея Баранова. Некоторые тексты кого-то могут даже задеть — например, цикл «Литературщина»: всё-таки критику досталось от поэта ни за что ни про что, даже обидно: «А если мой в культуре / отсутствовал бы след — / что б кушал он, в натуре, / литературоед?!» — и дальше: «Мы, приземлённые сальери, / и гениальные Они». Вообще там, где есть оценка явлений, автору отнюдь не близких, подобрать хлёсткие слова он умеет — стихи обжигают своими яркими финалами, горько-ироничными — да и просто горькими: «И следует нескорый номер двести / путём кружным и долгим, как кишки».
Часто, когда читаешь Андрея Баранова, возникает то щемящее чувство, как будто что-то самое важное, дорогое выпало из рук в непроглядную тьму — и уже не вернуть: и своя прошлая жизнь, где все живы, и вся наша общая прошлая жизнь, где тоже — все живы, да и просто даже — надежда («И звезда потерялась моя / шестернёй в отработанном масле»). И героя это чувство грызёт изнутри: проклятые вопросы, не дающие покоя. Малая родина почти не лечит, иногда только ощущаясь как место силы («здесь безошибочно обманы / распознаёшь – и соль земли»). А так — наоборот, здесь, вдали от больших городов, их суеты, дыхание хаоса ощущается очень остро, в полный рост встаёт тютчевская обнажённая бездна:
За окнами, думаешь, вьюга?
Из тела уходит тепло?.. —
А это зверюга-хворюга
сосёт тебя через стекло!
Ты смотришь ей в чёрные зенки,
в них ужас внезапный топя —
а жизнь потихоньку-маленьку
опять покидает тебя!
Читая книгу, прямо видишь темноту, чувствуешь холод: метафизический холод времени, ужас времени. В предисловии Андрей Пермяков пишет о том, что «обилие бань в первой части книги, помимо частно-общего российского колориту, отражает постоянное желание смыть с себя вот это всё». А ещё — добавим — согреться, потому что в мире — какая-то не проходящая зима.
И что остаётся человеку, где ему найти опору, когда прошлое, хоть и греет, но оно фантом, в настоящем «всё смешалось», а будущее — то, чего не будет («И жизнь — это миг между прошлым / и тем, что не будет уже»). Да просто быть, оставаясь частным человеком, противопоставляя неправильному ходу жизни правильный — повседневность с её тихими буднями и простыми радостями:
На катке сверкают праздники,
в небе рвётся апельсин…
Всё почти как раньше: правильно.
Баня. Пятница. И сын.
Ирина Кадочникова
«Всё правильно» — о книге стихов Андрея Баранова
Не просто же так Александр Переверзин в «Литературных итогах 2024 года» (опубликованы в журнале «Формаслов») ошибочно назвал «Между прошлым» избранным. Но это не избранное: книгу составили стихотворения, написанные с 2016 по 2024 гг. Это всего 8 лет, а такое ощущение, что началась она очень давно: внушителен не формальный объём, а объём жизни, уложенной в 300 страниц поэтического текста: жизнь героя, его семьи, его друзей, его страны, наконец. Здесь много прошлого, это понятно уже из названия: нулевые, 90-е, СССР. Только прошлое и прекрасно, а настоящее такое, что, наверное, лучшего визуального ряда, чем мунковский «Крик», размещённый на обложке, и не подберёшь. Баранов отнюдь не идёт по пути эскапизма — в разделах «Вынес мусор» и «Между прошлым» он остросоциален, но всё-таки уход в прошлое — тоже вариант спасения от всего того, что преподносит человеку сегодняшний день.
Прошлое — такое время, которое не кончается, его можно хоть сколько длить. Обрастая новыми подробностями в наших воспоминаниях, оно превращается в бесконечное кино. Взять хотя бы первое стихотворение книги: «тогда» намного важнее, чем «сейчас», словно вся жизнь и осталась в этом «тогда». Прошлое как будто бы заслоняет собой настоящее, вытесняет его, причём какие-то приметы минувшего всё ещё продолжают своё существование, став памятниками эпохи (или её призраками), — например, «котельная, оставшаяся от СССР-а».
Время в этой книге тесно связано с пространством, личная история человека — с историей места. С одной стороны, география здесь не особо важна. В «почти что умершем городе» Андрея Баранова узнаётся любой провинциальный город — другого будущего у провинции нет (то есть будущего у неё в принципе нет): пруд зарастает травой, завод умолкает. Напрашивается параллель с поэтами почвеннического/неопочвеннического толка, но, конечно, творчество Баранова к почвенничеству не сводится: это лишь грань поэтики.
С другой стороны, география весьма важна: один из главных героев книги — город Сарапул, что в Удмуртской Республике, — насквозь заводской: «…сугробы сквозь ведут к заводу. / Здесь больше некуда идти». Нельзя сказать, что Сарапул на карте современной поэзии не значится вообще: он известен как город Алексея Сомова. Но Сомов шёл по пути мифологизации региона, поэтому и Сарапул превратился у него в Тугарин. Баранов, напротив, фактографически точен, документален в изображении быта — городского, заводского, частного. Это такая поэзия повседневности, сотканная из деталей, подробностей «простой, обычной, в общем-то, жизни» — жизни почти мещанской, обывательской и счастливой. Поэтому многого не надо — достаточно маленького провинциального города, где, словами Баранова, сказанными совсем о другом, «ничего нет», но «всё есть». Вспоминается Тимур Кибиров и его «Леночка, будем мещанами…» Но если герой Кибирова смотрит в будущее, то герой Баранов — в прошлое: мещанское счастье осталось в минувшем столетии, когда были «молоды все и живы»: «Счастье не то, чтобы где-то, оно прямо здесь — есть / борщ на веранде с зеленью, красное пить сухое». Ностальгическая интонация роднит Баранова с Евгением Кремчуковым, да и тема семьи, семейственности важна для обоих. Только Кремчуков по-хорошему сентиментален, в то время как Баранов часто ироничен и даже резок: да, прошлое не идеализируется, но о нём говорится хорошо (а иначе — ничего!), хотя и здесь Баранов не брезгует крепким словцом. Однако ведь и оно может звучать весело и безобидно, тем более, когда речь идёт, например, о выдающихся способностях рабочего класса: «Всё может сделать из говна / шлифовщик высшего разряда!» А вот настоящее заслуживает других слов.
Герой Баранова — это такой современный Одиссей, который то покидает родной город, то возвращается в него, поэтому он давно уже не совсем свой: «я здесь, примазавшийся с боку, / не свой и сам собой гоним». Взгляд часто трезво-беспощадный: «На малой родине сугробы / и колеи, куда ни йду. / Я не обязан ей до гроба / башкою грохаться на льду!» И этот взгляд касается всего. Герой — средний человек, слишком средний, даже серый, скучный, «что у метро окурки / неотличимый от других». Но при этом он рефлексирующий: такой вот средний человек, жующий «курочку из KFC» и размышляющий над событиями эпохального масштаба. Он ничем не выделяется — он думает и оценивает, но мысль, как известно, невидима.
Книга «Между прошлым» далеко не только про прошлое и отношения героя с малой родиной. Она на самом деле про отношения человека с современностью: на фоне прошлого контраст ярче.
Трезво-беспощадная интонация, местами циничная, сопряжённая с тоскливо-безысходной нотой, пронизывает многие стихотворения Андрея Баранова. Некоторые тексты кого-то могут даже задеть — например, цикл «Литературщина»: всё-таки критику досталось от поэта ни за что ни про что, даже обидно: «А если мой в культуре / отсутствовал бы след — / что б кушал он, в натуре, / литературоед?!» — и дальше: «Мы, приземлённые сальери, / и гениальные Они». Вообще там, где есть оценка явлений, автору отнюдь не близких, подобрать хлёсткие слова он умеет — стихи обжигают своими яркими финалами, горько-ироничными — да и просто горькими: «И следует нескорый номер двести / путём кружным и долгим, как кишки».
Часто, когда читаешь Андрея Баранова, возникает то щемящее чувство, как будто что-то самое важное, дорогое выпало из рук в непроглядную тьму — и уже не вернуть: и своя прошлая жизнь, где все живы, и вся наша общая прошлая жизнь, где тоже — все живы, да и просто даже — надежда («И звезда потерялась моя / шестернёй в отработанном масле»). И героя это чувство грызёт изнутри: проклятые вопросы, не дающие покоя. Малая родина почти не лечит, иногда только ощущаясь как место силы («здесь безошибочно обманы / распознаёшь – и соль земли»). А так — наоборот, здесь, вдали от больших городов, их суеты, дыхание хаоса ощущается очень остро, в полный рост встаёт тютчевская обнажённая бездна:
За окнами, думаешь, вьюга?
Из тела уходит тепло?.. —
А это зверюга-хворюга
сосёт тебя через стекло!
Ты смотришь ей в чёрные зенки,
в них ужас внезапный топя —
а жизнь потихоньку-маленьку
опять покидает тебя!
Читая книгу, прямо видишь темноту, чувствуешь холод: метафизический холод времени, ужас времени. В предисловии Андрей Пермяков пишет о том, что «обилие бань в первой части книги, помимо частно-общего российского колориту, отражает постоянное желание смыть с себя вот это всё». А ещё — добавим — согреться, потому что в мире — какая-то не проходящая зима.
И что остаётся человеку, где ему найти опору, когда прошлое, хоть и греет, но оно фантом, в настоящем «всё смешалось», а будущее — то, чего не будет («И жизнь — это миг между прошлым / и тем, что не будет уже»). Да просто быть, оставаясь частным человеком, противопоставляя неправильному ходу жизни правильный — повседневность с её тихими буднями и простыми радостями:
На катке сверкают праздники,
в небе рвётся апельсин…
Всё почти как раньше: правильно.
Баня. Пятница. И сын.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22