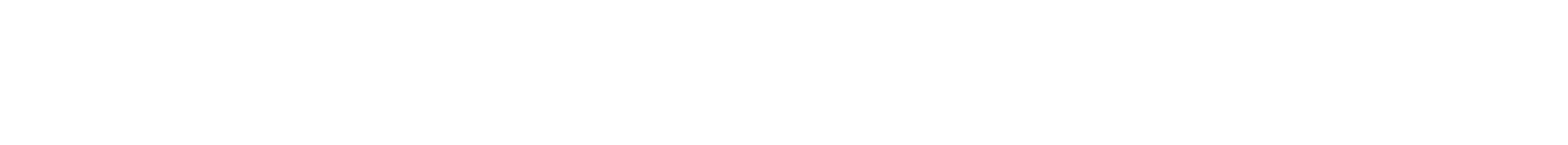Впервые опубликовано в журнале «Кольцо А», № 181.
Новая книга стихотворений Михаила Гундарина — поэта, прозаика, журналиста и публициста — «цепляет» уже начиная с названия: «Непоправимый день». С одной стороны, это никак не тот эпитет, которым обозначается день — ни как световой отрезок суток, ни как временная и бытийственная единица измерения. С другой же — каким ещё может быть любое прошедшее (или проходящее) время?.. Ведь ничего, совершённого в этом «лучшем из миров», невозможно изменить к лучшему, как бы того ни хотелось. Но справедливо ли тогда определение нашего мира как лучшего из возможных?..
Впрочем, «непоправимым днём» парадоксы сборника Гундарина не исчерпываются. В книге три раздела, и они носят еще более оксюморонные названия. Первый раздел озаглавлен «Ангел-истребитель». Любопытная отсылка к песне Владимира Высоцкого «Их восемь, нас двое», лирический герой которой прямо говорит, что после гибели готов стать таковым в небесной армии, ангелом-асом — и только если «у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас». У Гундарина ангел-истребитель совсем другой. Стихотворение, подарившее блоку броский заголовок, — это «История с ангелом» с подзаголовком «Из цикла „Истории“». Следовательно, подобных сюжетных стихов прозаического построения у автора несколько.
«История с ангелом» — пространный верлибр весьма жестокого содержания. Некий бизнесмен был в «лихие девяностые» заживо сожжён с семьей в свежевыстроенном коттедже, уцелел лишь его сын от первого брака, путешествовавший на тот момент по Америке. В организации преступления подозревали компаньонов покойного, но доказать их причастность не смогли — а сын погибшего, от чьего лица ведётся повествование, вынашивал планы мести. Но с течением лет мстить оказалось некому. Трое подозреваемых «все умерли при простых обстоятельствах». Рассказчик полагал: «это я убил их / своей волей я изменил их судьбу», — до тех пор, пока к нему не явился «ангел / белый большой светящийся все дела» и не рассказал, что человеческая воля ни при чём, а цепочка смертей, начиная с отца — промысел высших сил, так как все умершие это заслужили: «чем заслужили не спрашивай у нас своя / бухгалтерия». Поражённый безжалостной высшей справедливостью, рассказчик признаётся:
скоро я умру и сам стану ангелом-истребителем
у меня для этого есть всё
долгая память
твёрдая рука
чёткий глазомер
Что ж, новая эпоха диктует радикально иную мотивацию для нынешних «ангелов-истребителей». А стихотворение «История с ангелом» остаётся, несомненно, одним из опорных и смыслообразующих текстов сборника.
Второй раздел называется «Разноцветная кровь», что влечёт целую уйму ассоциаций — от медицински-лабораторных до иррационально-чувственных: пестроткани, смешения, стилизации. И только замыкающий книгу раздел озаглавлен просто и как будто устало: «Короткий эпилог». Непосредственно замыкает стихотворное высказывание (всю книгу) ещё одна перекличка с поэтом-бардом, теперь с Булатом Окуджавой: «Ночной троллейбус» (ибо песня, которую мы чаще поминаем как «Синий троллейбус», на деле — «Полночный троллейбус»). Точнее, Гундарин из своего ночного экипажа возражает стихийному окуджавскому оптимизму и стихающей боли:
День был жарок, полночь — неизбежна,
за окном то смерть, то бакалея.
Приближаясь к линии прибрежной,
замирает старая аллея.
Это силлабо-тоническое стихотворение составляет логичный диптих с верлибром, расположенным на одном с ним развороте:
О, сентябрьский воздух из толстых жил
утомлённого города!
Вот, стемнело.
Завтра праздник
и нужно набраться сил.
Выпускают кровь
для такого дела —
на кленовые листья, обложки книг,
плавники цветастых автомобилей.
Два текста рядом дают совершенно иное раскрытие темы «городского пейзажа», столь любезного стихотворцам всех времён и народов, заметной частью которого является движение — то наблюдаемое, а то ощущаемое и транслируемое поэтом. В этом Гундарин не оригинален: он посвящает множество стихов городской среде, в которой не просто живёт, а связан сотнями неразрывных культурных кодов. Оригинальность нашего автора в другом: в подаче простых, естественных, «намозоливших глаза» явлений через призму острого личного взгляда, в преломлении которого новое прочтение обретают даже переклички. Их у Гундарина порядком — естественная дань эпохе постмодернизма, в чьём контексте мы существуем. Некоторые оммажи адресованы известнейшим культурным мифам:
Столетье смерти модерна.
Вербное воскресенье.
Голову Олоферна
вносят в чужие сени…
или крылатым строчкам поэтов прошлого:
где небо будущим беременно
а тут продлёнка третий класс
мы все идём тропою Римана
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное
густеет в баночке чернил
всё ассонансное, минорное
какое ты и сам любил
Некогда Георгий Иванов окликал античного воителя: «И Леонид под Фермопилами, конечно, умер и за них». Михаил Гундарин тем же размером и посылом потревожил покой немецкого математика.
Но есть у поэта и не столь явные аллюзии. В ряде случаев, вероятно, он не проводит сознательных параллелей, но читатель сам их находит, так как быстро понимает, что подтекст есть один из любимых приёмов, если не характерных признаков поэтики Гундарина. В пример приведу стихи «1990, ноябрь»:
…Где пьяная Москва, вдыхая креозот
Безумного бомжа на грязной остановке,
То чиркнет коготком, то весело лизнёт
Шершавым языком обшарпанной Покровки.
Новейших катастроф дождливая тоска,
Провинции в огне, Калининский в тумане…
Бреду сквозь эту ночь, кончается доска,
Шажок — и я уже в заплатанном кармане
Единственной страны…
Для меня эти строки прочно ассоциируются с четверостишием Валерия Прокошина (1959–2009), о чьём наследии я не раз писала, называя его «великим поэтом русской провинции»:
Отсюда уезжать — какой корысти ради,
Сжимая чернозём в отравленной горсти?
В Венеции — чума, блокада — в Ленинграде,
И Бог глядит в глаза — и глаз не отвести.
Рассудком я понимаю, что Гундарин вряд ли держал в голове прокошинские строки и адресовался к ним. Но на подсознательном уровне для меня и то, и другое стихотворение — о родине духа, о месте происхождения поэтов, один из которых видит его в географической плоскости, а другой — в хронологической.
Книга «Непоправимый день» кажется мне ярким образчиком концептуализма. Причём во всех смыслах. И в новейшем понимании литературно-художественного направления постмодернизма, сформировавшегося в середине XX века на Западе и вместе с новыми веяниями перекочевавшего в Россию. Концептуальное искусство, как известно, ставит идею выше выражения и видит свою цель в передаче оной. Поэтому концептуализм не столько эстетичен, сколько рационален; он всюду ищет подтекст, исток, исходное состояние и значение слова, образа, мысли, а также рассматривает связи всего со всем, ибо это тоже процесс идейный и идеологический. Но что-то есть в стихах Гундарина и от изначального толкования концептуализма — средневекового направления схоластической философии, основанной на понятии. В рамках этой доктрины познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из опыта, а является синтезом эмпирики и рационализма. Что и демонстрирует Гундарин, с трёх разных сторон подходя к такому незамысловатому, казалось бы, признаку нашего времени, как русский шансон:
Радио Шансон
Почитай мне Фаберже
Тихо, не в затяг.
Мы состарились уже,
Дальше нам никак.
Вот тебе моя рука,
Вот на небе Бог.
От звонка и до звонка
Отмотавшим срок
(…)
Слёзы на моём ноже,
Тёмный лес внутри…
Фаберже-не Фаберже,
Плачь и говори!
* * *
Пятую ночь поют
пьяные пассажиры,
Голосящая дрянь подпалила вагон.
Слышать их не могу — но знаешь,
ты заслужила,
я буду слушать тебя,
ты мой русский шансон.
И, наконец (хотя это стихотворение «опережает» в сборнике два вышепроцитированных):
Мне осени этой не жалко,
Пускай рассыпается в прах
Клинком никудышной закалки,
Стаканом в дрожащих руках,
Звездой под тяжёлым ботинком,
Кварталом, сожжённым в ночи:
Скорее разбейте пластинку,
Пусть музыка замолчит!
При всем приоритете для концептуализма идеи перед эмоциональной выразительностью, тексты, принадлежащие к этому обширному направлению, обычно очень интересны именно с художественной точки зрения — и поэзия Гундарина не исключение. В числе лучших приёмов концептуальной поэтики — обыгрывание штампов и устоявшихся представлений, пародийность, скрытое и явное цитирование, обилие аллюзий и реминисценций и насмешливая интонация. Скажем, вот такая:
Книжку «Правила жизни в саванне»
как-то ночью, задумчив и пьян,
я листал в остывающей ванне
(помню, в частности, клич обезьян
«акакАчча-угИрру-игИрру»,
Что-то вроде «вперёд, командир!»)
(…)
Основное из правил саванны —
Никогда в неё не попадать.
Закончить рецензию хочется как-то парадоксально, в духе её «объекта». В конечном итоге, не так и важно, к какому направлению принадлежит или причисляет себя поэт. Напротив — довольно часто поэты вообще отказываются причислять себя к какому бы то ни было «стану». Так, поэт Тимур Кибиров, справочниками относимый к постмодернизму, соц-арту и концептуализму и признанный одним из видных современных концептуалистов, на мой вопрос в интервью, кем лично он себя полагает, ответил: «Я лично считаю себя традиционным русским лирическим поэтом». Думаю, то же самое вправе сказать и Михаил Гундарин. Его техничная, перенасыщенная приметами современности и её культурных пространств поэзия — новейший извод традиционной русской лирики с характерным для неё вниманием к человеку, его внутреннему миру («плачь и говори») и контактам с этим миром. На том и порешим.
Елена Сафронова
В одном городе с ангелами
Михаил Гундарин, Непоправимый день — М.: Синяя гора, 2024. — 116 с.
Новая книга стихотворений Михаила Гундарина — поэта, прозаика, журналиста и публициста — «цепляет» уже начиная с названия: «Непоправимый день». С одной стороны, это никак не тот эпитет, которым обозначается день — ни как световой отрезок суток, ни как временная и бытийственная единица измерения. С другой же — каким ещё может быть любое прошедшее (или проходящее) время?.. Ведь ничего, совершённого в этом «лучшем из миров», невозможно изменить к лучшему, как бы того ни хотелось. Но справедливо ли тогда определение нашего мира как лучшего из возможных?..
Впрочем, «непоправимым днём» парадоксы сборника Гундарина не исчерпываются. В книге три раздела, и они носят еще более оксюморонные названия. Первый раздел озаглавлен «Ангел-истребитель». Любопытная отсылка к песне Владимира Высоцкого «Их восемь, нас двое», лирический герой которой прямо говорит, что после гибели готов стать таковым в небесной армии, ангелом-асом — и только если «у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас». У Гундарина ангел-истребитель совсем другой. Стихотворение, подарившее блоку броский заголовок, — это «История с ангелом» с подзаголовком «Из цикла „Истории“». Следовательно, подобных сюжетных стихов прозаического построения у автора несколько.
«История с ангелом» — пространный верлибр весьма жестокого содержания. Некий бизнесмен был в «лихие девяностые» заживо сожжён с семьей в свежевыстроенном коттедже, уцелел лишь его сын от первого брака, путешествовавший на тот момент по Америке. В организации преступления подозревали компаньонов покойного, но доказать их причастность не смогли — а сын погибшего, от чьего лица ведётся повествование, вынашивал планы мести. Но с течением лет мстить оказалось некому. Трое подозреваемых «все умерли при простых обстоятельствах». Рассказчик полагал: «это я убил их / своей волей я изменил их судьбу», — до тех пор, пока к нему не явился «ангел / белый большой светящийся все дела» и не рассказал, что человеческая воля ни при чём, а цепочка смертей, начиная с отца — промысел высших сил, так как все умершие это заслужили: «чем заслужили не спрашивай у нас своя / бухгалтерия». Поражённый безжалостной высшей справедливостью, рассказчик признаётся:
скоро я умру и сам стану ангелом-истребителем
у меня для этого есть всё
долгая память
твёрдая рука
чёткий глазомер
Что ж, новая эпоха диктует радикально иную мотивацию для нынешних «ангелов-истребителей». А стихотворение «История с ангелом» остаётся, несомненно, одним из опорных и смыслообразующих текстов сборника.
Второй раздел называется «Разноцветная кровь», что влечёт целую уйму ассоциаций — от медицински-лабораторных до иррационально-чувственных: пестроткани, смешения, стилизации. И только замыкающий книгу раздел озаглавлен просто и как будто устало: «Короткий эпилог». Непосредственно замыкает стихотворное высказывание (всю книгу) ещё одна перекличка с поэтом-бардом, теперь с Булатом Окуджавой: «Ночной троллейбус» (ибо песня, которую мы чаще поминаем как «Синий троллейбус», на деле — «Полночный троллейбус»). Точнее, Гундарин из своего ночного экипажа возражает стихийному окуджавскому оптимизму и стихающей боли:
День был жарок, полночь — неизбежна,
за окном то смерть, то бакалея.
Приближаясь к линии прибрежной,
замирает старая аллея.
Это силлабо-тоническое стихотворение составляет логичный диптих с верлибром, расположенным на одном с ним развороте:
О, сентябрьский воздух из толстых жил
утомлённого города!
Вот, стемнело.
Завтра праздник
и нужно набраться сил.
Выпускают кровь
для такого дела —
на кленовые листья, обложки книг,
плавники цветастых автомобилей.
Два текста рядом дают совершенно иное раскрытие темы «городского пейзажа», столь любезного стихотворцам всех времён и народов, заметной частью которого является движение — то наблюдаемое, а то ощущаемое и транслируемое поэтом. В этом Гундарин не оригинален: он посвящает множество стихов городской среде, в которой не просто живёт, а связан сотнями неразрывных культурных кодов. Оригинальность нашего автора в другом: в подаче простых, естественных, «намозоливших глаза» явлений через призму острого личного взгляда, в преломлении которого новое прочтение обретают даже переклички. Их у Гундарина порядком — естественная дань эпохе постмодернизма, в чьём контексте мы существуем. Некоторые оммажи адресованы известнейшим культурным мифам:
Столетье смерти модерна.
Вербное воскресенье.
Голову Олоферна
вносят в чужие сени…
или крылатым строчкам поэтов прошлого:
где небо будущим беременно
а тут продлёнка третий класс
мы все идём тропою Римана
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное
густеет в баночке чернил
всё ассонансное, минорное
какое ты и сам любил
Некогда Георгий Иванов окликал античного воителя: «И Леонид под Фермопилами, конечно, умер и за них». Михаил Гундарин тем же размером и посылом потревожил покой немецкого математика.
Но есть у поэта и не столь явные аллюзии. В ряде случаев, вероятно, он не проводит сознательных параллелей, но читатель сам их находит, так как быстро понимает, что подтекст есть один из любимых приёмов, если не характерных признаков поэтики Гундарина. В пример приведу стихи «1990, ноябрь»:
…Где пьяная Москва, вдыхая креозот
Безумного бомжа на грязной остановке,
То чиркнет коготком, то весело лизнёт
Шершавым языком обшарпанной Покровки.
Новейших катастроф дождливая тоска,
Провинции в огне, Калининский в тумане…
Бреду сквозь эту ночь, кончается доска,
Шажок — и я уже в заплатанном кармане
Единственной страны…
Для меня эти строки прочно ассоциируются с четверостишием Валерия Прокошина (1959–2009), о чьём наследии я не раз писала, называя его «великим поэтом русской провинции»:
Отсюда уезжать — какой корысти ради,
Сжимая чернозём в отравленной горсти?
В Венеции — чума, блокада — в Ленинграде,
И Бог глядит в глаза — и глаз не отвести.
Рассудком я понимаю, что Гундарин вряд ли держал в голове прокошинские строки и адресовался к ним. Но на подсознательном уровне для меня и то, и другое стихотворение — о родине духа, о месте происхождения поэтов, один из которых видит его в географической плоскости, а другой — в хронологической.
Книга «Непоправимый день» кажется мне ярким образчиком концептуализма. Причём во всех смыслах. И в новейшем понимании литературно-художественного направления постмодернизма, сформировавшегося в середине XX века на Западе и вместе с новыми веяниями перекочевавшего в Россию. Концептуальное искусство, как известно, ставит идею выше выражения и видит свою цель в передаче оной. Поэтому концептуализм не столько эстетичен, сколько рационален; он всюду ищет подтекст, исток, исходное состояние и значение слова, образа, мысли, а также рассматривает связи всего со всем, ибо это тоже процесс идейный и идеологический. Но что-то есть в стихах Гундарина и от изначального толкования концептуализма — средневекового направления схоластической философии, основанной на понятии. В рамках этой доктрины познание проявляется вместе с опытом, но не исходит из опыта, а является синтезом эмпирики и рационализма. Что и демонстрирует Гундарин, с трёх разных сторон подходя к такому незамысловатому, казалось бы, признаку нашего времени, как русский шансон:
Радио Шансон
Почитай мне Фаберже
Тихо, не в затяг.
Мы состарились уже,
Дальше нам никак.
Вот тебе моя рука,
Вот на небе Бог.
От звонка и до звонка
Отмотавшим срок
(…)
Слёзы на моём ноже,
Тёмный лес внутри…
Фаберже-не Фаберже,
Плачь и говори!
* * *
Пятую ночь поют
пьяные пассажиры,
Голосящая дрянь подпалила вагон.
Слышать их не могу — но знаешь,
ты заслужила,
я буду слушать тебя,
ты мой русский шансон.
И, наконец (хотя это стихотворение «опережает» в сборнике два вышепроцитированных):
Мне осени этой не жалко,
Пускай рассыпается в прах
Клинком никудышной закалки,
Стаканом в дрожащих руках,
Звездой под тяжёлым ботинком,
Кварталом, сожжённым в ночи:
Скорее разбейте пластинку,
Пусть музыка замолчит!
При всем приоритете для концептуализма идеи перед эмоциональной выразительностью, тексты, принадлежащие к этому обширному направлению, обычно очень интересны именно с художественной точки зрения — и поэзия Гундарина не исключение. В числе лучших приёмов концептуальной поэтики — обыгрывание штампов и устоявшихся представлений, пародийность, скрытое и явное цитирование, обилие аллюзий и реминисценций и насмешливая интонация. Скажем, вот такая:
Книжку «Правила жизни в саванне»
как-то ночью, задумчив и пьян,
я листал в остывающей ванне
(помню, в частности, клич обезьян
«акакАчча-угИрру-игИрру»,
Что-то вроде «вперёд, командир!»)
(…)
Основное из правил саванны —
Никогда в неё не попадать.
Закончить рецензию хочется как-то парадоксально, в духе её «объекта». В конечном итоге, не так и важно, к какому направлению принадлежит или причисляет себя поэт. Напротив — довольно часто поэты вообще отказываются причислять себя к какому бы то ни было «стану». Так, поэт Тимур Кибиров, справочниками относимый к постмодернизму, соц-арту и концептуализму и признанный одним из видных современных концептуалистов, на мой вопрос в интервью, кем лично он себя полагает, ответил: «Я лично считаю себя традиционным русским лирическим поэтом». Думаю, то же самое вправе сказать и Михаил Гундарин. Его техничная, перенасыщенная приметами современности и её культурных пространств поэзия — новейший извод традиционной русской лирики с характерным для неё вниманием к человеку, его внутреннему миру («плачь и говори») и контактам с этим миром. На том и порешим.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22