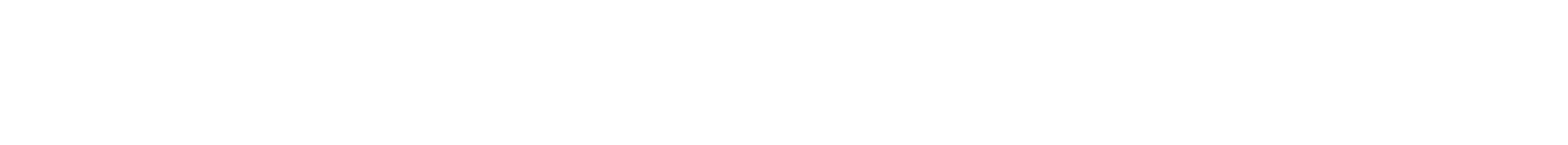Впервые опубликовано в приложении к «Независимой газете» — EX Libris.
Сразу признаюсь: некоторые стихи из книги произвели на меня тягостное впечатление («Бремя», «Свалка манекенов», «Стиральная машина», «Лёд» и др.), то есть цель, намеренно поставленная автором, — такое именно впечатление произвести, достигнута. Почему в этом видится намеренность, а не случайность: получившая поэтический импульс невротическая рефлексия или незаживающий след пережитой боли — объяснимо, если включить подсветку стихотворного контекста. Выбрав, в данном случае именно случайно, строки Шарля Бодлера, Георга Гейма и Фёдора Сологуба, мы увидим основных предшественников и то направление, которому этот интересный талантливый автор следует.
Вот Бодлер:
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодею я от чёрного сознанья.
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина,
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встаёт уродство сна
Многообразного, — кошмар без окончанья.
(«Пропасть». Перевод Константина Бальмонта)
Вот Гейм:
И шеи демонов, как у жираф...
Дитя без головы. И держит мать
Его в руках. И ужас, сердце сжав,
Её поверг, холодный, на кровать.
(«Демоны городов». Перевод Бориса Пастернака)
А вот Сологуб:
Прикинется котом
Испуганная нежить.
А что она потом
Затеет? мучить? нежить?
(«Не трогай в темноте…»)
В современной русской поэзии, пожалуй, трудно отыскать столь верного последователя поэзии ужасов: Константин Матросов если и не совсем один на этом поле мрака и отчаяния, то, несомненно, он здесь самый яркий поэт, не брезгующий для шоковой терапии ни физиологичными образами на грани этики, ни психологическими подробностями, тоже «на грани». Не всегда это, на мой взгляд, оправдано, однако за грань Матросов пытается заглянуть постоянно, и такое заглядывание — интересно. Нередко он превращает балладу с её чётким ситуативно-психологическим сюжетом в канал, ведущий за пределы рационально объяснимого, того, что скрывается под тонкой обложкой сознания и грозит древними силами хаоса, которыми поэтическое сознание пытается управлять, поместив их в стихотворную форму. В балладных стихах, когда-то прочитанных Матросовым на «Полёте разборов», были шероховатости. Наверное, можно найти их и в этой книге. И всё же стихи «Свалки манекенов» говорят об отточенной мастеровитости пера и тематическом приоритете. С одной стороны, это хорошо: автор вступил в пору поэтического зенита и подходит к отбору стихов строго, с другой — в таком подходе таится опасность: ограниченность круга читателей и риск их потери при внезапном тематическом расширении, уходе от чёрного эпатажа и вообще от всего, вызывающего тревогу и страх. Замечу в порядке гипотезы, что как раз баллада и сонет, а также приверженность классической силлаботонике становятся формообразующей защитой от прорыва хаоса «с той стороны», от шуршащих во мраке безликих теней: «Шелухи где-то тут, где-то тут, где-то тут». «Шелухи» напомнили Юрия Мамлеева, с холодным любопытством подталкивавшего читателя на территорию «шатунов» — неподконтрольную разуму и потому смертельно опасную зону звериных инстинктов, отданных во власть смерти.
Однако в стихах Константина Матросова не всё так однозначно и не всё так мрачно. Лирическое «я» не сводится только к нагнетанию страха, пусть и с аутопсихотерапевтической целью: освобождаясь от страха сам, поэт помогает освободиться и читателю. Силуэт поэтического «я» порой расплывается, точно от слёз, за стихами о потерях проступает лицо человека, способного сочувствовать не только людям, но и животным, к примеру кошке, потерявшей котят: «Она искала их три дня везде: / В родильном шкафе, в зале и в прихожей…» («Кошка»), и даже неживому «Упраздняют троллейбусный парк, / И троллейбусов скоро не будет» («Реформа»). Возможно, как раз пытаясь убежать от своей сверхчувствительности, от способности к жалости и состраданию, поэт взошёл на сцену «театра зла», чтобы, исследуя то, что «за гранью», накачать мускулы сопротивления. Страх и одновременно исследовательская тяга ко злу — вот проступающие в стихах причины погружения в поэтику тьмы.
Есть и ещё один мотив в книге, лиричный, тихий и не менее сильный, чем тяжёлые зримые образы, — это мотив памяти. И здесь проступает та же противоречивость: с одной стороны, прошлое не отпускает («...боль, боль, боль, боль, боль...»), с другой — оно «кроме царапка на тумбе от скитальца» («Гостиница») «больше не оставит ничего». Возможно, от того, что след человеческой жизни столь легко исчезнет, возникает — как протест против будущего, отвергающего и стирающего прошлое — неприязнь к зарождающейся жизни («Бремя»). Дополнительный оттенок мотиву прошлого придают школьные стихи-воспоминания. Единение, верность, слияние чувств (пусть только в памяти) — вот идеал, к сожалению, и он из-за разного пережитого опыта невозможен:
Всё то, что мы друг другу говорим, —
Лишь тени на стене сырой пещеры.
Кривое эхо, грохот, белый шум.
(«Чужая школа»)
Образ строительных влюблённых кранов, тянущихся друг к другу «сквозь спрессованный туман» («Стройка»), отвергая возможность счастливого соединения, как-то непонятно, чисто поэтически связан подстрочным течением с манекенами («Свалка манекенов»): и краны когда-нибудь соединит свалка. И такие подспудные токи в стихах, как мне кажется, наиболее отчётливый признак поэтического дара, по крайней мере не меньший, чем авторское мастерство. Столь же интересна связь строк «В детстве я заблудился в лесу / И, может, остался там» («Заблудился в лесу») и баллады «Таксист», герой которой «заблудившись, зашёл не в свой век». А «волчья стая», забежавшая вслед за таксистом, символически разрослась до тотального зла, вызывая страх. Риск «заблудиться в лесу» есть не только у ребёнка: теневая сторона психики способна пересекать границы личности... Книга Константина Матросова ещё и об этом.
Мария Бушуева
Заблудившись в лесу
Попытка освобождения от страха
Сразу признаюсь: некоторые стихи из книги произвели на меня тягостное впечатление («Бремя», «Свалка манекенов», «Стиральная машина», «Лёд» и др.), то есть цель, намеренно поставленная автором, — такое именно впечатление произвести, достигнута. Почему в этом видится намеренность, а не случайность: получившая поэтический импульс невротическая рефлексия или незаживающий след пережитой боли — объяснимо, если включить подсветку стихотворного контекста. Выбрав, в данном случае именно случайно, строки Шарля Бодлера, Георга Гейма и Фёдора Сологуба, мы увидим основных предшественников и то направление, которому этот интересный талантливый автор следует.
Вот Бодлер:
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодею я от чёрного сознанья.
Вверху, внизу, везде бездонность, глубина,
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встаёт уродство сна
Многообразного, — кошмар без окончанья.
(«Пропасть». Перевод Константина Бальмонта)
Вот Гейм:
И шеи демонов, как у жираф...
Дитя без головы. И держит мать
Его в руках. И ужас, сердце сжав,
Её поверг, холодный, на кровать.
(«Демоны городов». Перевод Бориса Пастернака)
А вот Сологуб:
Прикинется котом
Испуганная нежить.
А что она потом
Затеет? мучить? нежить?
(«Не трогай в темноте…»)
В современной русской поэзии, пожалуй, трудно отыскать столь верного последователя поэзии ужасов: Константин Матросов если и не совсем один на этом поле мрака и отчаяния, то, несомненно, он здесь самый яркий поэт, не брезгующий для шоковой терапии ни физиологичными образами на грани этики, ни психологическими подробностями, тоже «на грани». Не всегда это, на мой взгляд, оправдано, однако за грань Матросов пытается заглянуть постоянно, и такое заглядывание — интересно. Нередко он превращает балладу с её чётким ситуативно-психологическим сюжетом в канал, ведущий за пределы рационально объяснимого, того, что скрывается под тонкой обложкой сознания и грозит древними силами хаоса, которыми поэтическое сознание пытается управлять, поместив их в стихотворную форму. В балладных стихах, когда-то прочитанных Матросовым на «Полёте разборов», были шероховатости. Наверное, можно найти их и в этой книге. И всё же стихи «Свалки манекенов» говорят об отточенной мастеровитости пера и тематическом приоритете. С одной стороны, это хорошо: автор вступил в пору поэтического зенита и подходит к отбору стихов строго, с другой — в таком подходе таится опасность: ограниченность круга читателей и риск их потери при внезапном тематическом расширении, уходе от чёрного эпатажа и вообще от всего, вызывающего тревогу и страх. Замечу в порядке гипотезы, что как раз баллада и сонет, а также приверженность классической силлаботонике становятся формообразующей защитой от прорыва хаоса «с той стороны», от шуршащих во мраке безликих теней: «Шелухи где-то тут, где-то тут, где-то тут». «Шелухи» напомнили Юрия Мамлеева, с холодным любопытством подталкивавшего читателя на территорию «шатунов» — неподконтрольную разуму и потому смертельно опасную зону звериных инстинктов, отданных во власть смерти.
Однако в стихах Константина Матросова не всё так однозначно и не всё так мрачно. Лирическое «я» не сводится только к нагнетанию страха, пусть и с аутопсихотерапевтической целью: освобождаясь от страха сам, поэт помогает освободиться и читателю. Силуэт поэтического «я» порой расплывается, точно от слёз, за стихами о потерях проступает лицо человека, способного сочувствовать не только людям, но и животным, к примеру кошке, потерявшей котят: «Она искала их три дня везде: / В родильном шкафе, в зале и в прихожей…» («Кошка»), и даже неживому «Упраздняют троллейбусный парк, / И троллейбусов скоро не будет» («Реформа»). Возможно, как раз пытаясь убежать от своей сверхчувствительности, от способности к жалости и состраданию, поэт взошёл на сцену «театра зла», чтобы, исследуя то, что «за гранью», накачать мускулы сопротивления. Страх и одновременно исследовательская тяга ко злу — вот проступающие в стихах причины погружения в поэтику тьмы.
Есть и ещё один мотив в книге, лиричный, тихий и не менее сильный, чем тяжёлые зримые образы, — это мотив памяти. И здесь проступает та же противоречивость: с одной стороны, прошлое не отпускает («...боль, боль, боль, боль, боль...»), с другой — оно «кроме царапка на тумбе от скитальца» («Гостиница») «больше не оставит ничего». Возможно, от того, что след человеческой жизни столь легко исчезнет, возникает — как протест против будущего, отвергающего и стирающего прошлое — неприязнь к зарождающейся жизни («Бремя»). Дополнительный оттенок мотиву прошлого придают школьные стихи-воспоминания. Единение, верность, слияние чувств (пусть только в памяти) — вот идеал, к сожалению, и он из-за разного пережитого опыта невозможен:
Всё то, что мы друг другу говорим, —
Лишь тени на стене сырой пещеры.
Кривое эхо, грохот, белый шум.
(«Чужая школа»)
Образ строительных влюблённых кранов, тянущихся друг к другу «сквозь спрессованный туман» («Стройка»), отвергая возможность счастливого соединения, как-то непонятно, чисто поэтически связан подстрочным течением с манекенами («Свалка манекенов»): и краны когда-нибудь соединит свалка. И такие подспудные токи в стихах, как мне кажется, наиболее отчётливый признак поэтического дара, по крайней мере не меньший, чем авторское мастерство. Столь же интересна связь строк «В детстве я заблудился в лесу / И, может, остался там» («Заблудился в лесу») и баллады «Таксист», герой которой «заблудившись, зашёл не в свой век». А «волчья стая», забежавшая вслед за таксистом, символически разрослась до тотального зла, вызывая страх. Риск «заблудиться в лесу» есть не только у ребёнка: теневая сторона психики способна пересекать границы личности... Книга Константина Матросова ещё и об этом.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru