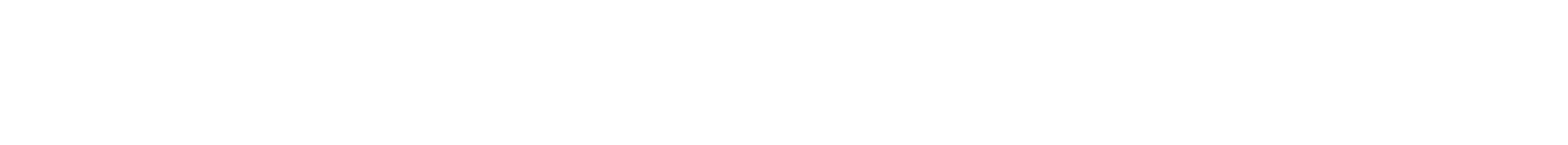Впервые опубликовано в приложении к «Независимой газете» — EX Libris.
Сборник эссе Бориса Кутенкова вышел в серии «Спасибо». Как замечает автор в предисловии, идея серии на первый взгляд проста: поэт рассказывает о своих любимых стихах, пытаясь угадать и объяснить причину собственного выбора. Читателю и самому себе. У каждого пишущего есть любимые стихи, и поговорить о них стоит. Это приятная беседа. Сложность — в критериях разграничения: выбранные стихи другого поэта, классика или современника, действительно у него лучшие? Или они всего лишь отражают какие-то психологические блики и тени толкователя?
Впрочем, Борис Кутенков сразу снял вопрос разграничений и пошёл по второму пути, искренне признавшись, что ему «хочется выбирать именно „свои“, а не „объективно лучшие“ стихи у поэтов». В результате предложенные им тексты оказались откровенно неравноценными. К примеру, трудно отнести к шедеврам стихотворение Татьяны Бек — такой неплохой, но средней лирики огромное множество. Но то же стихотворение Бек оказалось отнюдь не средним для Бориса Кутенкова на пути самопознания. «Я кое-что узнал о себе и личной системе выбора, — признаётся автор эссе, — именно эмпирическим путем, уже в процессе написания посмотрев на соотношение этих выбранных текстов, на сами комментарии и их, комментариев, схожесть и разность». Даже если бы разговор о стихах свёлся только к такому проекционному тесту, он всё равно бы имел смысл. Автопортрет Бориса Кутенкова, который можно составить и по стихам, и по комментариям к ним, интересен не только со стороны личной биографии и личной психологии автора. Напомню: Борис Кутенков — поэт, литературный критик, культуртрегер, редактор отдела критики и публицистики журнала «Формаслов», редактор отдела поэзии журнала «Прочтение». Автопортрет перерастает границы личного и, расширяясь до собирательного образа, сигнализирует о тех болевых точках, которые отражаются в проблемах социальных. Здесь детская психотравма, «прирученная», но не изжитая боль, подростковый конфликт с родителями, тяжесть потери близких друзей, ушедших в небытие: выдох «Господи, хватит с меня» Бориса Слуцкого — становится защитной молитвой Бориса Кутенкова. Здесь и рефлексия по поводу «эгоцентрически усиленного „я“» на примере стихотворения Арсения Тарковского, и как тревожный симптом — инфантильная дискретность взглядов, следствие ненавязчиво продвигаемого в сферах этики когнитивного диссонанса. Иногда проблемы не вуалируются, а становятся чётким отражением «болезненных социальных реалий нашего времени»: таким видится автору текст Дмитрия Гаричева. А в строках Антона Морозова, несмотря на их иронию по отношению к романтизму, Кутенков ощущает тоску по миру гармонии «до создания малевичского „Чёрного квадрата“». Если бы такой тоски не было, не стало бы и поэзии. Ее «надсловесное вещество, которое толком не вербализуемо, но которое только и свидетельствует о высшей подлинности» Борис Кутенков находит в стихотворении Бориса Рыжего, находит и нечто «заклинательное, обладающее иррациональной силой» у Наты Сучковой, мифологизацию обыденного у Ганны Шевченко и порыв к свободе у Нади Делаланд. Неподвластное рациональному анализу «чудо стихотворения» Борис Кутенков видит в «Русалке» Михаила Лермонтова. Интересное и тонкое замечание, касающееся характера и судьбы русского классика: «Мне слышится здесь что-то от лермонтовского фатального необладания: что-то личное для него и глубоко скрытое, ассоциирующееся не только с романтической традицией тяготения к недоступному». Угаданная в стихотворении «Я любимого нигде не встретила…» Анны Ахматовой победа поэзии над невзаимностью — для толкователя не только психологический «бонус», это шаг к «чёткому и лучшему замыслу. К Господу».
Может показаться, что размышления Бориса Кутенкова о поэзии противоречат его же стремлению ограничить выбор «своими» стихами, а не «объективно лучшими», но это не так. По книге видно, что его «я» находится внутри круга поэзии, соединённой с личностными устремлениями не механически, не искусственно, не в качестве приложения. Поэзия, как космос, вбирает в себя всего поэта — колеблющегося на ветрах извне, иногда отклоняющегося от своего ядра на большое расстояние, но сохраняющего силой внутреннего глубинного притяжения к ядру «духовные атомы». И поэзия, внутри которой сейчас происходят, по сути, те же процессы, — с гораздо большими рисками утраты «высшей подлинности» — предстаёт в книге не только в образах «степной камышинки» и «смешной дудочки» Юрия Левитанского, но и как иной уровень понимания, как соединение очевидного и трансцендентного.
Те эссе, в которых автор ссылается на авторитеты, менее интересны. Интереснее там, где зеркало текста отражает не чужое мнение, а лицо самого Бориса Кутенкова. О трактовках стихов, конечно, можно спорить, но их субъективность — живой разговор.
Мария Бушуева
Тоска по миру гармонии
Автопортрет Бориса Кутенкова, перерастающий границы личного
Сборник эссе Бориса Кутенкова вышел в серии «Спасибо». Как замечает автор в предисловии, идея серии на первый взгляд проста: поэт рассказывает о своих любимых стихах, пытаясь угадать и объяснить причину собственного выбора. Читателю и самому себе. У каждого пишущего есть любимые стихи, и поговорить о них стоит. Это приятная беседа. Сложность — в критериях разграничения: выбранные стихи другого поэта, классика или современника, действительно у него лучшие? Или они всего лишь отражают какие-то психологические блики и тени толкователя?
Впрочем, Борис Кутенков сразу снял вопрос разграничений и пошёл по второму пути, искренне признавшись, что ему «хочется выбирать именно „свои“, а не „объективно лучшие“ стихи у поэтов». В результате предложенные им тексты оказались откровенно неравноценными. К примеру, трудно отнести к шедеврам стихотворение Татьяны Бек — такой неплохой, но средней лирики огромное множество. Но то же стихотворение Бек оказалось отнюдь не средним для Бориса Кутенкова на пути самопознания. «Я кое-что узнал о себе и личной системе выбора, — признаётся автор эссе, — именно эмпирическим путем, уже в процессе написания посмотрев на соотношение этих выбранных текстов, на сами комментарии и их, комментариев, схожесть и разность». Даже если бы разговор о стихах свёлся только к такому проекционному тесту, он всё равно бы имел смысл. Автопортрет Бориса Кутенкова, который можно составить и по стихам, и по комментариям к ним, интересен не только со стороны личной биографии и личной психологии автора. Напомню: Борис Кутенков — поэт, литературный критик, культуртрегер, редактор отдела критики и публицистики журнала «Формаслов», редактор отдела поэзии журнала «Прочтение». Автопортрет перерастает границы личного и, расширяясь до собирательного образа, сигнализирует о тех болевых точках, которые отражаются в проблемах социальных. Здесь детская психотравма, «прирученная», но не изжитая боль, подростковый конфликт с родителями, тяжесть потери близких друзей, ушедших в небытие: выдох «Господи, хватит с меня» Бориса Слуцкого — становится защитной молитвой Бориса Кутенкова. Здесь и рефлексия по поводу «эгоцентрически усиленного „я“» на примере стихотворения Арсения Тарковского, и как тревожный симптом — инфантильная дискретность взглядов, следствие ненавязчиво продвигаемого в сферах этики когнитивного диссонанса. Иногда проблемы не вуалируются, а становятся чётким отражением «болезненных социальных реалий нашего времени»: таким видится автору текст Дмитрия Гаричева. А в строках Антона Морозова, несмотря на их иронию по отношению к романтизму, Кутенков ощущает тоску по миру гармонии «до создания малевичского „Чёрного квадрата“». Если бы такой тоски не было, не стало бы и поэзии. Ее «надсловесное вещество, которое толком не вербализуемо, но которое только и свидетельствует о высшей подлинности» Борис Кутенков находит в стихотворении Бориса Рыжего, находит и нечто «заклинательное, обладающее иррациональной силой» у Наты Сучковой, мифологизацию обыденного у Ганны Шевченко и порыв к свободе у Нади Делаланд. Неподвластное рациональному анализу «чудо стихотворения» Борис Кутенков видит в «Русалке» Михаила Лермонтова. Интересное и тонкое замечание, касающееся характера и судьбы русского классика: «Мне слышится здесь что-то от лермонтовского фатального необладания: что-то личное для него и глубоко скрытое, ассоциирующееся не только с романтической традицией тяготения к недоступному». Угаданная в стихотворении «Я любимого нигде не встретила…» Анны Ахматовой победа поэзии над невзаимностью — для толкователя не только психологический «бонус», это шаг к «чёткому и лучшему замыслу. К Господу».
Может показаться, что размышления Бориса Кутенкова о поэзии противоречат его же стремлению ограничить выбор «своими» стихами, а не «объективно лучшими», но это не так. По книге видно, что его «я» находится внутри круга поэзии, соединённой с личностными устремлениями не механически, не искусственно, не в качестве приложения. Поэзия, как космос, вбирает в себя всего поэта — колеблющегося на ветрах извне, иногда отклоняющегося от своего ядра на большое расстояние, но сохраняющего силой внутреннего глубинного притяжения к ядру «духовные атомы». И поэзия, внутри которой сейчас происходят, по сути, те же процессы, — с гораздо большими рисками утраты «высшей подлинности» — предстаёт в книге не только в образах «степной камышинки» и «смешной дудочки» Юрия Левитанского, но и как иной уровень понимания, как соединение очевидного и трансцендентного.
Те эссе, в которых автор ссылается на авторитеты, менее интересны. Интереснее там, где зеркало текста отражает не чужое мнение, а лицо самого Бориса Кутенкова. О трактовках стихов, конечно, можно спорить, но их субъективность — живой разговор.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22