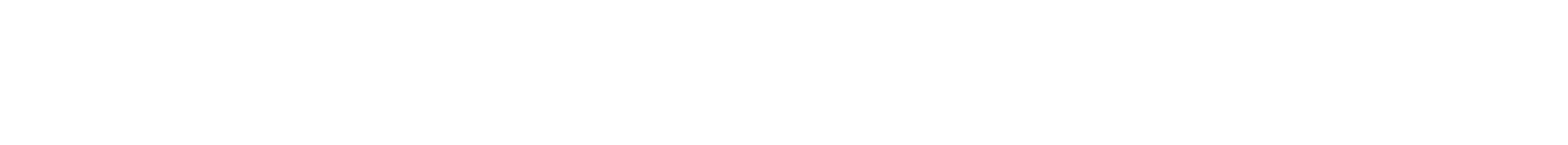Впервые опубликовано на портале «ГодЛитературы».
В поэтическом сборнике Михаила Гундарина сам языковой строй выводит за границы обыденности, в тот простор семантической многоплановости, который только и свидетельствует о подлинной поэзии, — притом что здесь преобладает регулярный стих (пара верлибров — и не самых удачных — особой погоды не делают), отсутствуют форсированные приёмы. Нередко эффект достигается с помощью густого и разнообразного интертекста: так, маяковское «я сразу смазал карту будня» превращается в «Это я по небу пустил волну, / Обвалил сияющий потолок / До утра стаканом ловил Луну…» (налицо творческое переосмысление первоисточника — хотя бы потому, что мы узнаём здесь абсолютно индивидуальный текст без маяковского эпатажа). Мандельштамовское «а небо будущим беременно» сочетается с отсылкой к финалу хрестоматийного стихотворения Георгия Иванова (обычно все — начиная с Дениса Новикова и заканчивая Виталием Пухановым и Феликсом Чечиком — используют в качестве межтекстового импульса начало этого стихотворения: «А мы, Леонтьева и Тютчева / Сумбурные ученики…»). В концовке у Гундарина отражается Рыжий («я тоже стану музыкантом…»), но между строк при любой интертекстуальности остаётся пространство свободы — то самое, «многомерное» и «минорное». Тёмные углы, которые скорее говорят о подлинности, нежели тяготеют к сколько-нибудь однозначной интерпретации.
где небо будущим беременно
а тут продлёнка третий класс
мы все идём тропою Римана
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное
густеет в баночке чернил
всё ассонансное, минорное
какое ты и сам любил
иное только улыбается
не поддаётся мирный квант
он с нами пьёт, грешит и кается
как привокзальный музыкант
Парадоксальным становится и упоминание шансона в довольно обыденной и узнаваемой поездной зарисовке: сначала — «голосящая дрянь», но затем переворот всех координат привычного, возможность узнать в любимой «русский шансон», но принципиально другой, с его «тёплой хрипотцой», «молодостью и отвагой». Как это сочетается — бог весть: есть что-то, естественно преодолевающее силу приёма и даже образного парадокса. Кажется, ничего обыкновенного в этой книге быть не может — устройство поэтического мышления ненатужно выводит зарисовку в мифологические координаты. Елена Ваенга съедает героев Киплинга, но в этом не видится приёмов дешёвой фантастики. Скорее — какое-то горестное поражение перед «голосящим русским шансоном»; при этом ирония окрашивает здание минорности и безнадёжности, позволяет соблюсти пропорции.
Пятую ночь поют
пьяные пассажиры,
Голосящая дрянь подпалила вагон.
Слышать их не могу — но знаешь,
ты заслужила,
я буду слушать тебя,
ты мой русский шансон.
Тёплая хрипотца, молодость и отвага,
спрятанная в рукав
семихвостая плеть.
Елена Ваенга съест и Нагайну, и Нага —
тогда к нам спустится бог,
и мы перестанем петь.
Наряду с аллюзиями есть предположительные влияния — возможно, и не закладываемые автором. Где-то ощущается влияние метареализма — «механика и оптика» Ерёменко как будто лишены его праздничного лукавства и наглядной центонности, погружены скорее в «ледяной» универсум Ивана Жданова (заключительная строфа характерна для него):
Полдень декабрьский скользит и падает,
и застывает на миг в полёте —
кажется, в позе крылатой статуи,
но в темноте её не найдёте.
Свет неисправный разъят по болтику,
пусть его чинит кому есть дело.
Но не механику и не оптику —
корпус пустой, ледяное тело.
А вот стихотворение, не избегшее (опять-таки, лишь предположительно) влияния Дениса Новикова — его «Самопал» с «нервными восьмистишиями» (определение Олега Чухонцева) вообще вспоминался при чтении нередко
микрочастицы компьютерной сажи,
пачкающей лицо, —
главное, что обо всём расскажет,
если в конце концов
в новом столетье решим присниться,
выпрыгнуть из ларца,
продемонстрировать кровь на лицах
демонам без лица.
Впрочем, интертекстуальность — не то чтобы вторичный, но вспомогательный инструмент. Важнее само преображение реальности, для которого Гундарин использует философскую притчу. Письмо, отпущенное по водам; хлеб, приобретающий внешние свойства леопарда; люди, приобретающие внутренние свойства вымученного хлеба, — всё это в одном из лучших стихотворений книги намекает на социальность и, я бы сказал, встраивается в сюжет книги с её вынужденной, «запрещённой» жизнью. Заметим, что «мы» здесь не отталкивает, вызывая узнавание, тогда как в абсолютном большинстве стихотворений показалось бы ненужным обобщением или дидактикой.
месяц ели мокрый хлеб
что отпущен был по водам
а потом приплыл обратно
мы довольны не вполне
этим хлебным тихоходом —
у него на шкуре пятна
ну а если утонул
значит все мы утонули
хоть плавучи будто пробки
но не дали нам уплыть
утопили и вернули
и хранят в сырой коробке
Другой жанр в этой книге — персонажные притчи (берущие надёжный источник в прозе). В приведённом ниже стихотворении стилистика Олега Григорьева (сразу приходит на память «Я спросил электрика Петрова…») сочетается с сюжетом пушкинского «Пророка»; одновременно есть отсылка к русскому юродству («почто человеческое мясо ешь»). В концовке опять появляются «ледяные погреба» — перекликающиеся с «ледяным телом», «демонами без лица», вообще с макабрическими сюжетами автора. Сильный и леденящий (слово в духе Гундарина) эффект.
Петров закончил заготовки
обыденное моросит
троллейбус двинул с остановки
и не дождался, паразит
Петров, зачем свои соленья
ты кутал в старое пальто?
из огурцов и перцев тленья
не избежал ещё никто
ты скажешь плотная закрутка
и ледяные погреба
плывёт немытая маршрутка
Петров, а я скажу судьба
Хороши в книге и более «традиционные» стихи — условно, «любовная» лирика. Возможно, честностью, которая оставляет лирическое пространство в миноре, без каких-либо располагающих к оптимизму ходов (и это несмотря на иронию, что пронизывает книгу). Возможно — и даже главным образом — выдержанным в умелых пропорциях расстоянием между прозой жизни и её метафизической подкладкой, тем, что невозможно пересказать: «незначительное, розовое», «обескровленный куличик». «Несказанное, синее, нежное» — от Есенина; «Голубое и белое в си…» — от Рыжего, хотя и то и другое могло не подразумеваться: художественный универсум здесь всё равно узнаваемо гундаринский.
Незначительное, розовое,
Как желе на мелком блюдце.
До конца тебя использовал,
Лишь потом сумел проснуться.
Не моею смертью слепленный
Обескровленный куличик,
С этим миром крепко сцепленный,
Взятый в тысячу кавычек.
Значит, зря весь вечер думал я,
Что тоска моя напрасна,
Что тяжёлое, угрюмое
Пламя всё-таки погасло.
Михаил Гундарин сегодня незаслуженно малоизвестен как поэт — эту несправедливость только отчасти компенсирует его работа как литератора (книги об Искандере, Шукшине, активная культуртрегерская деятельность). Хочется надеяться, что книга «Непоправимый день» (тавтология намеренна) поправит эту ситуацию.
Борис Кутенков
Свет неисправный
Михаил Гундарин, Непоправимый день — М.: Синяя гора, 2024. — 116 с.
В поэтическом сборнике Михаила Гундарина сам языковой строй выводит за границы обыденности, в тот простор семантической многоплановости, который только и свидетельствует о подлинной поэзии, — притом что здесь преобладает регулярный стих (пара верлибров — и не самых удачных — особой погоды не делают), отсутствуют форсированные приёмы. Нередко эффект достигается с помощью густого и разнообразного интертекста: так, маяковское «я сразу смазал карту будня» превращается в «Это я по небу пустил волну, / Обвалил сияющий потолок / До утра стаканом ловил Луну…» (налицо творческое переосмысление первоисточника — хотя бы потому, что мы узнаём здесь абсолютно индивидуальный текст без маяковского эпатажа). Мандельштамовское «а небо будущим беременно» сочетается с отсылкой к финалу хрестоматийного стихотворения Георгия Иванова (обычно все — начиная с Дениса Новикова и заканчивая Виталием Пухановым и Феликсом Чечиком — используют в качестве межтекстового импульса начало этого стихотворения: «А мы, Леонтьева и Тютчева / Сумбурные ученики…»). В концовке у Гундарина отражается Рыжий («я тоже стану музыкантом…»), но между строк при любой интертекстуальности остаётся пространство свободы — то самое, «многомерное» и «минорное». Тёмные углы, которые скорее говорят о подлинности, нежели тяготеют к сколько-нибудь однозначной интерпретации.
где небо будущим беременно
а тут продлёнка третий класс
мы все идём тропою Римана
но Риман умер не за нас
зазря пространство многомерное
густеет в баночке чернил
всё ассонансное, минорное
какое ты и сам любил
иное только улыбается
не поддаётся мирный квант
он с нами пьёт, грешит и кается
как привокзальный музыкант
Парадоксальным становится и упоминание шансона в довольно обыденной и узнаваемой поездной зарисовке: сначала — «голосящая дрянь», но затем переворот всех координат привычного, возможность узнать в любимой «русский шансон», но принципиально другой, с его «тёплой хрипотцой», «молодостью и отвагой». Как это сочетается — бог весть: есть что-то, естественно преодолевающее силу приёма и даже образного парадокса. Кажется, ничего обыкновенного в этой книге быть не может — устройство поэтического мышления ненатужно выводит зарисовку в мифологические координаты. Елена Ваенга съедает героев Киплинга, но в этом не видится приёмов дешёвой фантастики. Скорее — какое-то горестное поражение перед «голосящим русским шансоном»; при этом ирония окрашивает здание минорности и безнадёжности, позволяет соблюсти пропорции.
Пятую ночь поют
пьяные пассажиры,
Голосящая дрянь подпалила вагон.
Слышать их не могу — но знаешь,
ты заслужила,
я буду слушать тебя,
ты мой русский шансон.
Тёплая хрипотца, молодость и отвага,
спрятанная в рукав
семихвостая плеть.
Елена Ваенга съест и Нагайну, и Нага —
тогда к нам спустится бог,
и мы перестанем петь.
Наряду с аллюзиями есть предположительные влияния — возможно, и не закладываемые автором. Где-то ощущается влияние метареализма — «механика и оптика» Ерёменко как будто лишены его праздничного лукавства и наглядной центонности, погружены скорее в «ледяной» универсум Ивана Жданова (заключительная строфа характерна для него):
Полдень декабрьский скользит и падает,
и застывает на миг в полёте —
кажется, в позе крылатой статуи,
но в темноте её не найдёте.
Свет неисправный разъят по болтику,
пусть его чинит кому есть дело.
Но не механику и не оптику —
корпус пустой, ледяное тело.
А вот стихотворение, не избегшее (опять-таки, лишь предположительно) влияния Дениса Новикова — его «Самопал» с «нервными восьмистишиями» (определение Олега Чухонцева) вообще вспоминался при чтении нередко
микрочастицы компьютерной сажи,
пачкающей лицо, —
главное, что обо всём расскажет,
если в конце концов
в новом столетье решим присниться,
выпрыгнуть из ларца,
продемонстрировать кровь на лицах
демонам без лица.
Впрочем, интертекстуальность — не то чтобы вторичный, но вспомогательный инструмент. Важнее само преображение реальности, для которого Гундарин использует философскую притчу. Письмо, отпущенное по водам; хлеб, приобретающий внешние свойства леопарда; люди, приобретающие внутренние свойства вымученного хлеба, — всё это в одном из лучших стихотворений книги намекает на социальность и, я бы сказал, встраивается в сюжет книги с её вынужденной, «запрещённой» жизнью. Заметим, что «мы» здесь не отталкивает, вызывая узнавание, тогда как в абсолютном большинстве стихотворений показалось бы ненужным обобщением или дидактикой.
месяц ели мокрый хлеб
что отпущен был по водам
а потом приплыл обратно
мы довольны не вполне
этим хлебным тихоходом —
у него на шкуре пятна
ну а если утонул
значит все мы утонули
хоть плавучи будто пробки
но не дали нам уплыть
утопили и вернули
и хранят в сырой коробке
Другой жанр в этой книге — персонажные притчи (берущие надёжный источник в прозе). В приведённом ниже стихотворении стилистика Олега Григорьева (сразу приходит на память «Я спросил электрика Петрова…») сочетается с сюжетом пушкинского «Пророка»; одновременно есть отсылка к русскому юродству («почто человеческое мясо ешь»). В концовке опять появляются «ледяные погреба» — перекликающиеся с «ледяным телом», «демонами без лица», вообще с макабрическими сюжетами автора. Сильный и леденящий (слово в духе Гундарина) эффект.
Петров закончил заготовки
обыденное моросит
троллейбус двинул с остановки
и не дождался, паразит
Петров, зачем свои соленья
ты кутал в старое пальто?
из огурцов и перцев тленья
не избежал ещё никто
ты скажешь плотная закрутка
и ледяные погреба
плывёт немытая маршрутка
Петров, а я скажу судьба
Хороши в книге и более «традиционные» стихи — условно, «любовная» лирика. Возможно, честностью, которая оставляет лирическое пространство в миноре, без каких-либо располагающих к оптимизму ходов (и это несмотря на иронию, что пронизывает книгу). Возможно — и даже главным образом — выдержанным в умелых пропорциях расстоянием между прозой жизни и её метафизической подкладкой, тем, что невозможно пересказать: «незначительное, розовое», «обескровленный куличик». «Несказанное, синее, нежное» — от Есенина; «Голубое и белое в си…» — от Рыжего, хотя и то и другое могло не подразумеваться: художественный универсум здесь всё равно узнаваемо гундаринский.
Незначительное, розовое,
Как желе на мелком блюдце.
До конца тебя использовал,
Лишь потом сумел проснуться.
Не моею смертью слепленный
Обескровленный куличик,
С этим миром крепко сцепленный,
Взятый в тысячу кавычек.
Значит, зря весь вечер думал я,
Что тоска моя напрасна,
Что тяжёлое, угрюмое
Пламя всё-таки погасло.
Михаил Гундарин сегодня незаслуженно малоизвестен как поэт — эту несправедливость только отчасти компенсирует его работа как литератора (книги об Искандере, Шукшине, активная культуртрегерская деятельность). Хочется надеяться, что книга «Непоправимый день» (тавтология намеренна) поправит эту ситуацию.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22