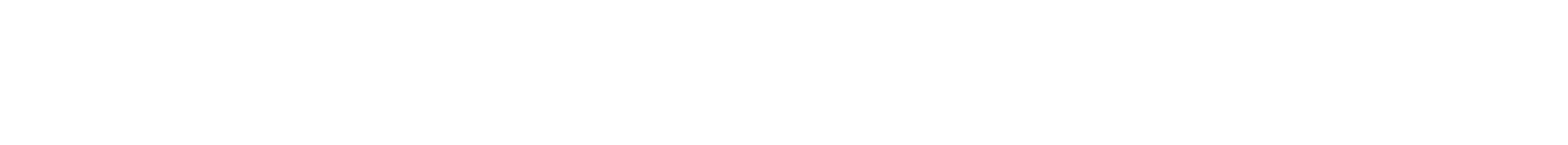Впервые опубликовано в литературном журнале «Формаслов».
Для моего читательского восприятия поэтической вселенной Елены Севрюгиной огромную ценность представляет скорее не технический аспект творчества автора, а в большей степени подход к структурированию формирующей это творчество словесности. Дело в том, что риторике Елены чужда любая декларация, чуждо какое-либо утверждение в категорической форме. В её новой книге «Раздетый свет» отсутствует то, что в предисловии к поэме «Наложница» Баратынский очень точно охарактеризовал как «односторонность суждения», обусловленная чьими-то, зачастую доминирующими, «положительными требованиями».
Помощником Елены и наиболее продуктивным её ассистентом в деле выстраивания содержательной множественности авторского высказывания, безусловно, выступила частица «не». При детальном рассмотрении как отдельных стихотворений книги, так и стихотворных циклов, в исследовательской памяти прочно кристаллизуются и надолго фиксируются следующие, открытые для пула интерпретаций, константы: «непрожитая жизнь», «звук не осязаемый», «непойманный всплеск воды», «слова не собранный мед», «несбытое тайное», «недобрый магический блеск». Здесь сразу напрашивается череда реминисценций. И главная, пожалуй, зиждется на широте и величине гения Александра Сергеевича Пушкина. Для наглядности процитируем фрагмент из стихотворения «Ещё одной высокой, важной песни…»: «…любить, лелеять учат / Не смертные, таинственные чувства».
В этой связи возникает обоснованный вопрос. К чему вообще весь этот спектр отрицаний? Почему бы, к примеру, «не смертные» не заменить на какую-либо более решительную и не требующую неоднозначной коннотации противоположность по типу «бессмертные», «недобрый магический блеск» (у Севрюгиной) на «злой»? Вводя в стихотворный текст фактор однозначности, Елена как бы автоматически и безболезненно ампутирует пространство для возражения, прежде всего себе. Подобное упрощение ведёт к отсутствию базисной, начальной стадии любого утверждения, представляющего сколько-нибудь значимую художественную ценность, — диалога с самим собой. Частица «не» позволяет Севрюгиной расширить пространство и временной отрезок речи. Смысловое обрамление слова выступает уже не в статусе универсальной и закрытой от анализа аксиомы, а в качестве фразы, произнесённой в контексте разговора с собой, в структуре пёстрой палитры авторской индивидуальности.
Неслучайно в книге мы можем обнаружить контрастные противопоставления и в то же время композиционно оправданные слияния «себя действительной» и «себя возможной»: «это то чем была я / в когда-то непрожитой жизни // это то чем я стала травой и осколками эха». Помимо этого, при опять-таки внимательном и погружённом прочтении книги мы найдём у Елены иллюстрацию предельной степени автономии автора от текста и от читателя, в равной мере автономии читателя от текста и, соответственно, от рассказчика, а также абсолютной самостоятельности текста как от причастного, так и от постороннего взгляда. Отделённость эта материализуется все той же частицей «не»: «это не ветер / проснувшись колышет листы / это не чья-то зима / заметает края / это сума и с ума — / но не ты и не я». Несмотря на масштабность замысла в пределах одной поэтической фразы, воплощение замысла происходит не в нарративе догматического суждения, а в формате частного мнения, в потоке будничного говорения. Подобный подход порождает подлинную свободу написания, первичного восприятия и последующих интерпретаций, а также возможных исправлений конкретного четверостишия, отдельного поэтического произведения либо совокупности стихотворений. Можно даже предположить, что перед нами олицетворение свободы черновика перед гегемонией чистовика, завершённый, опубликованный месседж с огромным количеством противоречивых и вместе с тем дополняющих друг друга заметок на полях.
Хотелось бы продолжить тему двойственности и, шире, множественности авторского «я». В этом контексте я увидел очень много родства с идейной моделью Мандельштама. Елена и сама открыто фиксирует данную генеалогию: «…шебутной поэтический птах / что живёт с мандельштамом за пазухой». К тому же автор вводит в собственный нарратив (именно нарратив, если мы рассматриваем книгу как целое, а не череду отдельных фрагментов) категорию «очевидца»: «и не дай бог лишиться очевидца — / хранителя неявного лица». Нетрудно догадаться, что это прямая отсылка к концепции «современника», или «соименника», Мандельштама, которую последний достаточно долго разрабатывал. Категории «очевидца» и «современника» выполняют функцию собственно самих стихотворений, которые здесь выступают как свидетели рефлексии поэта на окружающую действительность, на тот временной отрезок будничности, который гипотетически можно назвать «нашими днями».
Эту идею Мандельштам формулировал как в некотором роде послесловие к «1 января…». Осип Эмильевич декларативно стартовал с отрицания: «Нет, никогда ничей я не был современник…». А в итоге пришёл к новому эпосу, к тому самому «соименничеству», к новому герою, который как бы в истории, который как бы по отношению к этой истории участлив, но участие это рождается не из проживания «современности» внутри себя, а из недр самого века, из его внешнего обрамления. Будь то «век-волкодав», либо, как позднее напишет львовский поэт Гоша Буренин (1959-1995), автор книги, вышедшей в 2021 году в серии «Поэты литературных чтений “Они ушли. Они остались”», «век-сосунок». Аналогично и героиня Севрюгиной, существуя в конкретной действительности, не способна эту действительность имманентно прожить, преодолеть и уж тем более с ней примириться. Если в книге и присутствует элемент преодоления, то выражается он опять же в пресловутом «диалоге культур». Для Елены тот самый «Мандельштам за пазухой» реальнее и ощутимее любой современности, даже самой соблазнительной по уровню привлекательности. Именно поэтому к финалу книги к частице «не» как к филологической негативной доминанте прибавляется негатив метафизического порядка: «и никого ничего / никогда и нигде / сон и осколки / вчерашних небес по воде».
Но и Мандельштам, и Севрюгина в конечном счёте утверждают целостность и органичность «я» автора, несмотря на автономию множества идентичностей и типов этого «я». И делают они это едва ли не тождественно. Недаром в ранней мандельштамовской работе «Нашедший подкову» нам явлена, уж простите за столь тривиальный оксюморон, асимметричная симметрия «я»: «Время срезает меня, как монету / И мне уж не хватает меня самого». Для сравнения читаем у Севрюгиной о времени и о становлении старой-новой традиции: «как десятки столетий назад / бесконечное время назад / как тогда / и уходит вода / но приходит другая вода / навсегда».
В заключение хотелось бы вновь обратиться к стихотворению Елены «Это то чем была я…», чтобы посмотреть на поэзию автора вопреки всяким реминисценциям. Словом, вернуться, чтобы разглядеть что-то личное, персонифицированное и в то же время затрагивающее эмоциональный опыт каждого читателя. И пусть технически стихотворение построено максимально традиционно — героиня Севрюгиной как бы разговаривает с собой перед зеркалом либо перед собственной фотокарточкой (сразу вспоминается «Чёрный человек» Есенина, а в ещё большей степени напрашивается «Перед зеркалом» Ходасевича: «Я, я, я! Что за дикое слово! / Неужели вон тот — это я?») — мы всё же попробуем вычленить, что называется, внеэстетичную, лишённую налёта историчности прямую речь. И далеко ходить не нужно. Достаточно сакцентировать внимание на второй части этого прекрасного терцета: «это то чем я стала …// ожиданием детской улыбкой / материнской заботой / рисунком на мокром асфальте / незаметной грозой / вдалеке нарастающим гулом / зёрна града несущим / в холодном бесформенном теле / он однажды пробьётся наружу / звучащей вселенной / и меня обнаружат…». Перед нами одно из лучших проявлений, можно сказать, образец прямой речи. Здесь вам и женская лирика (в наилучшем значении и в наилучшем ракурсе её транслирования), и экзистенциальная философия отчуждения в толпе, то есть при наличии будничной мозаики из детей, ближайших родственников, друзей — тех элементов пазла, которые составляют нашу универсальную социальность. Однако в иерархии смыслов этого высказывания первичнее, конечно же, финальная фраза: «и меня обнаружат…». Это идеальное завершение не только конкретного стихотворения, но и всей книги. Буквально, с точки зрения композиции текста, — нет, а вот метафизически — да. Личностная бытийственность героини Елены уживается с бытностью чем-то, относящимся к более глобальному порядку, с такими универсальными сущностями, как замысел, творческий процесс, голос и в целом интонация говорения. К тому же и поэтическое «я» становится ещё более многогранным, обрастая новыми красками. Можно ведь обнаружить в нём не только мёртвого человека, не только душу, которая «отлетела от тела» (опять-таки, по Ходасевичу), но и подходящее, точное слово, перо и лист бумаги, читателя, «очевидца» и «современника» твоей творческой стези. А может быть, и расслышать чьё-то эхо, серебрящееся «сократовским смехом».
Навязывать свою точку зрения я никому не собираюсь. Обозначу единственное. По ходу знакомства с книгой Елены Севрюгиной и уже при повторных прочтениях я испытал и испытываю колоссальное удовольствие. Возможно, потому что её внутренний эйдос в чём-то оказался родственен моему. Но наверняка в значительно меньшей степени поэтому. Главным образом потому, что это прежде всего очень хорошая и качественная поэзия!
Исмаил Мустапаев
«И меня обнаружат…»
Елена Севрюгина, Раздетый свет. — М.: Синяя гора, 2023. — 68 с.
Для моего читательского восприятия поэтической вселенной Елены Севрюгиной огромную ценность представляет скорее не технический аспект творчества автора, а в большей степени подход к структурированию формирующей это творчество словесности. Дело в том, что риторике Елены чужда любая декларация, чуждо какое-либо утверждение в категорической форме. В её новой книге «Раздетый свет» отсутствует то, что в предисловии к поэме «Наложница» Баратынский очень точно охарактеризовал как «односторонность суждения», обусловленная чьими-то, зачастую доминирующими, «положительными требованиями».
Помощником Елены и наиболее продуктивным её ассистентом в деле выстраивания содержательной множественности авторского высказывания, безусловно, выступила частица «не». При детальном рассмотрении как отдельных стихотворений книги, так и стихотворных циклов, в исследовательской памяти прочно кристаллизуются и надолго фиксируются следующие, открытые для пула интерпретаций, константы: «непрожитая жизнь», «звук не осязаемый», «непойманный всплеск воды», «слова не собранный мед», «несбытое тайное», «недобрый магический блеск». Здесь сразу напрашивается череда реминисценций. И главная, пожалуй, зиждется на широте и величине гения Александра Сергеевича Пушкина. Для наглядности процитируем фрагмент из стихотворения «Ещё одной высокой, важной песни…»: «…любить, лелеять учат / Не смертные, таинственные чувства».
В этой связи возникает обоснованный вопрос. К чему вообще весь этот спектр отрицаний? Почему бы, к примеру, «не смертные» не заменить на какую-либо более решительную и не требующую неоднозначной коннотации противоположность по типу «бессмертные», «недобрый магический блеск» (у Севрюгиной) на «злой»? Вводя в стихотворный текст фактор однозначности, Елена как бы автоматически и безболезненно ампутирует пространство для возражения, прежде всего себе. Подобное упрощение ведёт к отсутствию базисной, начальной стадии любого утверждения, представляющего сколько-нибудь значимую художественную ценность, — диалога с самим собой. Частица «не» позволяет Севрюгиной расширить пространство и временной отрезок речи. Смысловое обрамление слова выступает уже не в статусе универсальной и закрытой от анализа аксиомы, а в качестве фразы, произнесённой в контексте разговора с собой, в структуре пёстрой палитры авторской индивидуальности.
Неслучайно в книге мы можем обнаружить контрастные противопоставления и в то же время композиционно оправданные слияния «себя действительной» и «себя возможной»: «это то чем была я / в когда-то непрожитой жизни // это то чем я стала травой и осколками эха». Помимо этого, при опять-таки внимательном и погружённом прочтении книги мы найдём у Елены иллюстрацию предельной степени автономии автора от текста и от читателя, в равной мере автономии читателя от текста и, соответственно, от рассказчика, а также абсолютной самостоятельности текста как от причастного, так и от постороннего взгляда. Отделённость эта материализуется все той же частицей «не»: «это не ветер / проснувшись колышет листы / это не чья-то зима / заметает края / это сума и с ума — / но не ты и не я». Несмотря на масштабность замысла в пределах одной поэтической фразы, воплощение замысла происходит не в нарративе догматического суждения, а в формате частного мнения, в потоке будничного говорения. Подобный подход порождает подлинную свободу написания, первичного восприятия и последующих интерпретаций, а также возможных исправлений конкретного четверостишия, отдельного поэтического произведения либо совокупности стихотворений. Можно даже предположить, что перед нами олицетворение свободы черновика перед гегемонией чистовика, завершённый, опубликованный месседж с огромным количеством противоречивых и вместе с тем дополняющих друг друга заметок на полях.
Хотелось бы продолжить тему двойственности и, шире, множественности авторского «я». В этом контексте я увидел очень много родства с идейной моделью Мандельштама. Елена и сама открыто фиксирует данную генеалогию: «…шебутной поэтический птах / что живёт с мандельштамом за пазухой». К тому же автор вводит в собственный нарратив (именно нарратив, если мы рассматриваем книгу как целое, а не череду отдельных фрагментов) категорию «очевидца»: «и не дай бог лишиться очевидца — / хранителя неявного лица». Нетрудно догадаться, что это прямая отсылка к концепции «современника», или «соименника», Мандельштама, которую последний достаточно долго разрабатывал. Категории «очевидца» и «современника» выполняют функцию собственно самих стихотворений, которые здесь выступают как свидетели рефлексии поэта на окружающую действительность, на тот временной отрезок будничности, который гипотетически можно назвать «нашими днями».
Эту идею Мандельштам формулировал как в некотором роде послесловие к «1 января…». Осип Эмильевич декларативно стартовал с отрицания: «Нет, никогда ничей я не был современник…». А в итоге пришёл к новому эпосу, к тому самому «соименничеству», к новому герою, который как бы в истории, который как бы по отношению к этой истории участлив, но участие это рождается не из проживания «современности» внутри себя, а из недр самого века, из его внешнего обрамления. Будь то «век-волкодав», либо, как позднее напишет львовский поэт Гоша Буренин (1959-1995), автор книги, вышедшей в 2021 году в серии «Поэты литературных чтений “Они ушли. Они остались”», «век-сосунок». Аналогично и героиня Севрюгиной, существуя в конкретной действительности, не способна эту действительность имманентно прожить, преодолеть и уж тем более с ней примириться. Если в книге и присутствует элемент преодоления, то выражается он опять же в пресловутом «диалоге культур». Для Елены тот самый «Мандельштам за пазухой» реальнее и ощутимее любой современности, даже самой соблазнительной по уровню привлекательности. Именно поэтому к финалу книги к частице «не» как к филологической негативной доминанте прибавляется негатив метафизического порядка: «и никого ничего / никогда и нигде / сон и осколки / вчерашних небес по воде».
Но и Мандельштам, и Севрюгина в конечном счёте утверждают целостность и органичность «я» автора, несмотря на автономию множества идентичностей и типов этого «я». И делают они это едва ли не тождественно. Недаром в ранней мандельштамовской работе «Нашедший подкову» нам явлена, уж простите за столь тривиальный оксюморон, асимметричная симметрия «я»: «Время срезает меня, как монету / И мне уж не хватает меня самого». Для сравнения читаем у Севрюгиной о времени и о становлении старой-новой традиции: «как десятки столетий назад / бесконечное время назад / как тогда / и уходит вода / но приходит другая вода / навсегда».
В заключение хотелось бы вновь обратиться к стихотворению Елены «Это то чем была я…», чтобы посмотреть на поэзию автора вопреки всяким реминисценциям. Словом, вернуться, чтобы разглядеть что-то личное, персонифицированное и в то же время затрагивающее эмоциональный опыт каждого читателя. И пусть технически стихотворение построено максимально традиционно — героиня Севрюгиной как бы разговаривает с собой перед зеркалом либо перед собственной фотокарточкой (сразу вспоминается «Чёрный человек» Есенина, а в ещё большей степени напрашивается «Перед зеркалом» Ходасевича: «Я, я, я! Что за дикое слово! / Неужели вон тот — это я?») — мы всё же попробуем вычленить, что называется, внеэстетичную, лишённую налёта историчности прямую речь. И далеко ходить не нужно. Достаточно сакцентировать внимание на второй части этого прекрасного терцета: «это то чем я стала …// ожиданием детской улыбкой / материнской заботой / рисунком на мокром асфальте / незаметной грозой / вдалеке нарастающим гулом / зёрна града несущим / в холодном бесформенном теле / он однажды пробьётся наружу / звучащей вселенной / и меня обнаружат…». Перед нами одно из лучших проявлений, можно сказать, образец прямой речи. Здесь вам и женская лирика (в наилучшем значении и в наилучшем ракурсе её транслирования), и экзистенциальная философия отчуждения в толпе, то есть при наличии будничной мозаики из детей, ближайших родственников, друзей — тех элементов пазла, которые составляют нашу универсальную социальность. Однако в иерархии смыслов этого высказывания первичнее, конечно же, финальная фраза: «и меня обнаружат…». Это идеальное завершение не только конкретного стихотворения, но и всей книги. Буквально, с точки зрения композиции текста, — нет, а вот метафизически — да. Личностная бытийственность героини Елены уживается с бытностью чем-то, относящимся к более глобальному порядку, с такими универсальными сущностями, как замысел, творческий процесс, голос и в целом интонация говорения. К тому же и поэтическое «я» становится ещё более многогранным, обрастая новыми красками. Можно ведь обнаружить в нём не только мёртвого человека, не только душу, которая «отлетела от тела» (опять-таки, по Ходасевичу), но и подходящее, точное слово, перо и лист бумаги, читателя, «очевидца» и «современника» твоей творческой стези. А может быть, и расслышать чьё-то эхо, серебрящееся «сократовским смехом».
Навязывать свою точку зрения я никому не собираюсь. Обозначу единственное. По ходу знакомства с книгой Елены Севрюгиной и уже при повторных прочтениях я испытал и испытываю колоссальное удовольствие. Возможно, потому что её внутренний эйдос в чём-то оказался родственен моему. Но наверняка в значительно меньшей степени поэтому. Главным образом потому, что это прежде всего очень хорошая и качественная поэзия!
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22