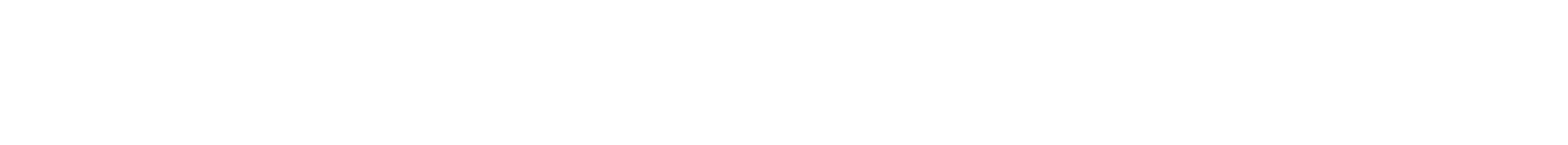Впервые опубликовано в литературном журнале «Формаслов».
Книга эссе о современной поэзии лирика, критика и редактора Елены Севрюгиной — восьмая в серии «Спасибо», задуманной основателями преимущественно поэтического издательства «Синяя гора» — Андреем Фамицким и Клементиной Ширшовой. Авторство трёх сборников принадлежит литераторам, более известным как поэты, — это размышления о чужих стихах Бориса Кутенкова, Александра Правикова, Феликса Чечика. В этом случае мы воспринимаем не столько что сказано, но в первую очередь — кем (нередко такая позиция ведёт к заблуждению, что большой поэт непременно окажется средним литературоведом, педагогом и так далее). Некоторые дебютанты и вовсе узнаются «с места в карьер», например, пилотная книга, принадлежащая Константину Матросову и одна из лучших с точки зрения стилистики, для многих «непосвящённых» будет репликой «какого-то парня». Другие же участники серии закрепились в «несправедливом» читательском сознании преимущественно как организаторы литпроцесса — это как раз случай Елены Севрюгиной.
Книга «О стихах и стихиях» посвящена 20 условно современным поэтам, из которых профессиональный литератор, ориентирующийся в литпроцессе (представим, что это я) читал примерно половину, а уж знакомых стихов встретил, возможно, пару. Если в книге Бориса Кутенкова есть Лермонтов, Полозкова* и Слуцкий, позволяющие «несуществующему широкому читателю» гордо ощущать себя в курсе дела (и подобным же двояким путём диалога и с «верхом», и с «низом» пытается пройти, например, его коллега Александр Правиков), то здесь уступок такого рода нет, красного поплавка не предвидится. Севрюгина хочет рассказать нам про новую землю либо же ориентируется на узкий круг. В этом смысле обратную крайность являет, скажем, труд Чечика «Четвертак», анализирующий отечественную классику, притом не всегда нуждающуюся в комментариях. Невольно Любопытный думает: «Неужто я не могу правильно понять самостоятельно Рубцова, Евтушенко, Окуджаву?» В то же время авторское прочтение никто не отменял, но в подобном составе такой побочный эффект неизбежен.
У Севрюгиной напротив — Владимир Гандельсман и Надя Делаланд, Светлана Кекова и Иван Жданов ещё фрагментарно знакомы читателю, следящему за литпроцессом, в том числе по СМИ, а вот Иван Зеленцов, Алексей Остудин, Илья Кутик, Яна Юшина… Серия предполагает, видимо, что большинство её авторов — «поэты, пишущие о поэтах и для поэтов», но сама территория камерности всё-таки должна расширяться. В этом смысле книга Кутенкова составлена оптимально выигрышно: от знакомого края к далёкой кромке. Одно дело — Левитанский и Бек, относиться к ним можно по-разному, но сам факт наличия отношения предполагает, что они существуют в нашей картине мира. Другой вопрос, когда старшее советское поколение не представлено, уж о классиках не говорю, и мы встречаемся с нынешним состоянием дел, попадая в элитарное пространство. Плоха ли, хороша ли была советская культура, но даже «второй ряд» (речь сейчас не о том, что Кекова определённо пишет лучше Маркова) в лице Ошанина и Самойлова знал каждый первый, а при нынешнем положении вещей и не каждый интеллектуал отличит Гандлевского от Гандельсмана. Благо ли демократизация подхода или «пошлость», реверанс или дружественный жест, это вопрос другой, но факт в том, что Севрюгина сразу обозначает свой круг авторов, как условно «ненародный», предназначенный для тех, кто испытывает сугубый интерес к предмету. Недавно на литературной конференции Андрей Василевский сказал, что предпочитает работать для тех, кому это нужно, и писать для тех, кто читает, а не бегать за всяким в надежде навязать свои представления о прекрасном. Возможно, Елена Севрюгина тяготеет к такой же позиции. Она, скорее, призывает подняться на условную вершину своих вкусов и интересов, нежели заигрывает с мимоидущим прохожим, пытаясь найти точку схождения на Лермонтове или Ахматовой, предлагая оригинальное толкование общеизвестного. Очевидно, что перед нами хотя и категоричное, но устойчивое мнение, и хотя бы поэтому оно заслуживает уважения.
Каждая главка у Севрюгиной являет собой не просто стихотворение и комментарий к нему — это именно эссе о поэте, его космогонии, основах мира. Например, вторая, о Светлане Кековой, — это гимн христианству. Одно дело кратко разобрать текст, другое — на двух страницах охарактеризовать сложного поэта: для этого надо не просто поэта любить, но и иметь собственный внушительный бэкграунд. Причём речь идёт не только об инструментарии для анализа произведения, но и об описании основ мироустройства. Не говоря уже о том, что текст эссе достаточно поэтичен и лирически значим сам по себе.
«А истина сама по себе молчалива (вспомним тютчевское «молчи, скрывайся и таи»), подлинное не выразить словами. Оно — в фараоновом молчании создателя «коричневой пирамиды», в мудрой обречённости сверчка, запускающего «звука веретено», в стрекозе, кажущейся реинкарнацией древнерусского князя Святослава, увидевшего тревожный пророческий сон о будущем поражении войска князя Игоря. Лиловое вино наводит на мысли о «вине синем, с горем смешанным». Его пил князь, полный дурных предчувствий».
Порой нам кажется, что автор эссе видит в стихотворении несколько больше, чем там есть, то есть прочитывает его через свой мир, а не мир поэта. Для метареализма множественность прочтений — плюс, однако при таком подходе мы узнаём не поэта, а обозревателя. Это то, в чём чаще всего зоилы обвиняют разборы Бориса Кутенкова: избранный поэт как повод поговорить о своём детстве или эпизоде из жизни, культуртрегер как литтусовщик. Здесь мы балансируем между словами Ольги Балла о филологе: «Никому мы тут не нужны» (в том смысле, что интересен предмет исследования, а не подробности личной жизни исследователя) — и представлением об эссеистике как о завуалированной автобиографии (Розанов). Перед нами не учебник, где коллектив авторов неотличим друг от друга, а скорее лирическое высказывание, «безличным» оно быть не может. Например, элегическое стихотворение Анны Маркиной разбирается почти как ахматовское: невысказанного куда больше, чем очевидного. Такое обогащение — проявление филологом себя на базе чужого текста, однако оно может стать и привычным видением читателя при удаче. Вспомним, как Недоброво создал более целостный образ Ахматовой и её творчества, нежели сама поэтесса, и сегодня мы часто видим её именно его глазами, даже не осознавая, откуда такое представление. Стихи Маркиной «Ты помнишь? Был дождями скован год…» анализируются Севрюгиной как трагические, делается вывод, что у лирической героини кто-то умер, что и саму ЛГ ждут беды. Тогда как альтернативное прочтение заключается в том, что подружки, например, живут недалеко от кладбища (как и мы жили в деревне когда-то, обычное для села дело), и там же играют, и естественно, что белка может украсть конфету из мрачного места. То есть возможно и вполне прозаическое прочтение с ноткой ностальгии по детству, особенно человеком с похожим опытом. Углубление Севрюгиной делает стихи интереснее, множа их на её атмосферные оттенки, но опасность — в доведении прочтения до возникновения нового произведения. Как это было у нас в вузе на студиях «текучки», когда педагог объяснял, что стихи Ахматовой «Цветов и неживых вещей…» (где рассказывается про огород и прудовую рыбу, как мы все помним) — на самом деле печальная история о том, как её бросил любовник, что, конечно, романтично, но всё же не прочитывается.
Поскольку эссе — это автопортрет, то каким представляется нам автор? Это редактор, через него идёт поток литературы, но это и женщина — не «редуцированная специалистка», какими бывают «училки с пучком и кошкой», а вполне «благополучная», проявленная в разных сферах жизни личность. Иногда это определяется словом «гармония»: может быть, только такой человек способен видеть разносторонне, «с пяти точек зрения» (Шубинский). Нужно сказать, что здесь присутствует материнский подход к автору, но не в смысле «усыновления Шукшина» (психологическое понятие, рождённое феноменом старушки, отождествлявшей погибшего сына с писателем Шукшиным, нередкий, увы, случай). Также у Севрюгиной есть способность совмещать поэта и его героя, жизнь и текст, принимать всё не «сухой книжностью», а цветущей реальностью. Есть, конечно, противники такого подхода («Мы работаем с текстом!»), но противники есть у всего на свете. Некоторые стихи Елена прочитывает «душой», «как простая русская баба» (кажется, это выражение принадлежит Вере Марецкой), другие же — как специалист с подготовкой, оборачиваясь разными сторонами. Видите ли, стихи могут «рифмоваться» с жизнью читателя, то есть «отзываться», только если похожий опыт есть или был. В противном случае мы будем оценивать красоту слога или сочувствовать бедным крестьянам, но всей полноты авторского мира не ощутим на себе. Бездетной женщине сложно понять, какой бы матерью она была и совпадали бы её ощущения с авторскими или нет, хотя гипотетически она может это реконструировать — в определённом смысле (не в хорошем, не в плохом, а в фактическом) она обеднена. Только личный опыт позволяет понять эмпирически некоторые грани творчества. Мир Севрюгиной в хорошем смысле полнокровный, обыкновенный: «Да щей горшок, да сам большой», — как писал Пушкин, поэтому в качестве камертона она важна. Факт, что у человека лишняя пара ног, делает его опыт уникальным и особенным, может привести к мировой известности как артиста, но делает ли он его ценным и важным для «человека вообще», резонирующим с сердцами соседей напротив — сложный вопрос. Что нам ближе в поэзии — норма или особенное?
Есть ли что-то общее в стихах, избранных Севрюгиной? Мы бы сказали, что это мотивы скоротечности жизни, близости смерти, мира как земного сада и ностальгии по детству. В общем, вполне здоровые приоритеты. Детство исполнено счастья или хотя бы мечты о нём, смерть страшна, кризис ведёт к христианскому самосознанию, совершенство не в человеке, а подчас в запахе «цветов и неживых вещей». Есть ощущение, что средневековая элитарная, но и религиозная культура стоит за подобной гаммой интересов. На мой взгляд, эссеист чаще выбирает «сильные», резонансные стихи, а не руководствуется принципом «по милому и хорош», «пусть тракторист, но мой». Так, взяты классические, программные стихи Евгении Джен Барановой «Приступ»; баллада Бориса Кутенкова «ночь темна, словно речь айзенберга», визионерское Андрея Таврова «За месяц до войны», концептуальные стихи о родах Нади Делаланд «скульптор небесный листающий лес». Симптоматично, что выбрано и скорее юмористическое стихотворение Андрея Фамицкого «Сверху занимаются любовью…», потому что, определённо, этот дар у Фамицкого есть, но мало кто его отмечает, всё это свидетельствует о хорошем слухе производящего отбор. Так закрадывается мысль, что редактор здесь преобладает над «просто женщиной». В то время как выбор Бориса Кутенкова, например, наводит на ощущение, что весь интеллектуально-профессиональный комплекс на время отключён и выбирает ребёнок, который остался один в тёмной комнате: стихи о лисёнке Наты Сучковой, стихи о «плохой маме» Веры Полозковой* и т. д. То есть выбор Севрюгиной я вижу не как эмоциональный или полностью ориентированный на состояние / жизненную ситуацию отбирающего, превалирует профессиональный навык. В то же время её истолкование, хотя иногда оно кажется гиперболизированным культурной линзой, в целом созвучно нам и понятно, в нас не происходит внутреннего противления, тем более шока от утверждения, что это «не шляпа, а слон в удаве». Хорошо ли, что критик понятен читателю, совпадает с ним, «гладко идёт»? Важно решить для себя, в чём именно цель эссеиста. Если вспомнить, что эссе — это жанр, позволяющий выразить себя опосредованно, создать свой автопортрет через контекст, тогда цель Севрюгиной достигнута, возможно даже, что создан в каком-то смысле лучший образ человека таким — как писала Цветаева, — каким его задумал Бог.
* Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. — Прим. ред.
Анна Аликевич
Что позволено Юноне, или «Почему он?»
Елена Севрюгина. — О стихах и стихиях. М.: Синяя гора, 2024. — 144 с.
Книга эссе о современной поэзии лирика, критика и редактора Елены Севрюгиной — восьмая в серии «Спасибо», задуманной основателями преимущественно поэтического издательства «Синяя гора» — Андреем Фамицким и Клементиной Ширшовой. Авторство трёх сборников принадлежит литераторам, более известным как поэты, — это размышления о чужих стихах Бориса Кутенкова, Александра Правикова, Феликса Чечика. В этом случае мы воспринимаем не столько что сказано, но в первую очередь — кем (нередко такая позиция ведёт к заблуждению, что большой поэт непременно окажется средним литературоведом, педагогом и так далее). Некоторые дебютанты и вовсе узнаются «с места в карьер», например, пилотная книга, принадлежащая Константину Матросову и одна из лучших с точки зрения стилистики, для многих «непосвящённых» будет репликой «какого-то парня». Другие же участники серии закрепились в «несправедливом» читательском сознании преимущественно как организаторы литпроцесса — это как раз случай Елены Севрюгиной.
Книга «О стихах и стихиях» посвящена 20 условно современным поэтам, из которых профессиональный литератор, ориентирующийся в литпроцессе (представим, что это я) читал примерно половину, а уж знакомых стихов встретил, возможно, пару. Если в книге Бориса Кутенкова есть Лермонтов, Полозкова* и Слуцкий, позволяющие «несуществующему широкому читателю» гордо ощущать себя в курсе дела (и подобным же двояким путём диалога и с «верхом», и с «низом» пытается пройти, например, его коллега Александр Правиков), то здесь уступок такого рода нет, красного поплавка не предвидится. Севрюгина хочет рассказать нам про новую землю либо же ориентируется на узкий круг. В этом смысле обратную крайность являет, скажем, труд Чечика «Четвертак», анализирующий отечественную классику, притом не всегда нуждающуюся в комментариях. Невольно Любопытный думает: «Неужто я не могу правильно понять самостоятельно Рубцова, Евтушенко, Окуджаву?» В то же время авторское прочтение никто не отменял, но в подобном составе такой побочный эффект неизбежен.
У Севрюгиной напротив — Владимир Гандельсман и Надя Делаланд, Светлана Кекова и Иван Жданов ещё фрагментарно знакомы читателю, следящему за литпроцессом, в том числе по СМИ, а вот Иван Зеленцов, Алексей Остудин, Илья Кутик, Яна Юшина… Серия предполагает, видимо, что большинство её авторов — «поэты, пишущие о поэтах и для поэтов», но сама территория камерности всё-таки должна расширяться. В этом смысле книга Кутенкова составлена оптимально выигрышно: от знакомого края к далёкой кромке. Одно дело — Левитанский и Бек, относиться к ним можно по-разному, но сам факт наличия отношения предполагает, что они существуют в нашей картине мира. Другой вопрос, когда старшее советское поколение не представлено, уж о классиках не говорю, и мы встречаемся с нынешним состоянием дел, попадая в элитарное пространство. Плоха ли, хороша ли была советская культура, но даже «второй ряд» (речь сейчас не о том, что Кекова определённо пишет лучше Маркова) в лице Ошанина и Самойлова знал каждый первый, а при нынешнем положении вещей и не каждый интеллектуал отличит Гандлевского от Гандельсмана. Благо ли демократизация подхода или «пошлость», реверанс или дружественный жест, это вопрос другой, но факт в том, что Севрюгина сразу обозначает свой круг авторов, как условно «ненародный», предназначенный для тех, кто испытывает сугубый интерес к предмету. Недавно на литературной конференции Андрей Василевский сказал, что предпочитает работать для тех, кому это нужно, и писать для тех, кто читает, а не бегать за всяким в надежде навязать свои представления о прекрасном. Возможно, Елена Севрюгина тяготеет к такой же позиции. Она, скорее, призывает подняться на условную вершину своих вкусов и интересов, нежели заигрывает с мимоидущим прохожим, пытаясь найти точку схождения на Лермонтове или Ахматовой, предлагая оригинальное толкование общеизвестного. Очевидно, что перед нами хотя и категоричное, но устойчивое мнение, и хотя бы поэтому оно заслуживает уважения.
Каждая главка у Севрюгиной являет собой не просто стихотворение и комментарий к нему — это именно эссе о поэте, его космогонии, основах мира. Например, вторая, о Светлане Кековой, — это гимн христианству. Одно дело кратко разобрать текст, другое — на двух страницах охарактеризовать сложного поэта: для этого надо не просто поэта любить, но и иметь собственный внушительный бэкграунд. Причём речь идёт не только об инструментарии для анализа произведения, но и об описании основ мироустройства. Не говоря уже о том, что текст эссе достаточно поэтичен и лирически значим сам по себе.
«А истина сама по себе молчалива (вспомним тютчевское «молчи, скрывайся и таи»), подлинное не выразить словами. Оно — в фараоновом молчании создателя «коричневой пирамиды», в мудрой обречённости сверчка, запускающего «звука веретено», в стрекозе, кажущейся реинкарнацией древнерусского князя Святослава, увидевшего тревожный пророческий сон о будущем поражении войска князя Игоря. Лиловое вино наводит на мысли о «вине синем, с горем смешанным». Его пил князь, полный дурных предчувствий».
О стихотворении С. Кековой «Протекает жизнь сквозь сердечный клапан…»
Порой нам кажется, что автор эссе видит в стихотворении несколько больше, чем там есть, то есть прочитывает его через свой мир, а не мир поэта. Для метареализма множественность прочтений — плюс, однако при таком подходе мы узнаём не поэта, а обозревателя. Это то, в чём чаще всего зоилы обвиняют разборы Бориса Кутенкова: избранный поэт как повод поговорить о своём детстве или эпизоде из жизни, культуртрегер как литтусовщик. Здесь мы балансируем между словами Ольги Балла о филологе: «Никому мы тут не нужны» (в том смысле, что интересен предмет исследования, а не подробности личной жизни исследователя) — и представлением об эссеистике как о завуалированной автобиографии (Розанов). Перед нами не учебник, где коллектив авторов неотличим друг от друга, а скорее лирическое высказывание, «безличным» оно быть не может. Например, элегическое стихотворение Анны Маркиной разбирается почти как ахматовское: невысказанного куда больше, чем очевидного. Такое обогащение — проявление филологом себя на базе чужого текста, однако оно может стать и привычным видением читателя при удаче. Вспомним, как Недоброво создал более целостный образ Ахматовой и её творчества, нежели сама поэтесса, и сегодня мы часто видим её именно его глазами, даже не осознавая, откуда такое представление. Стихи Маркиной «Ты помнишь? Был дождями скован год…» анализируются Севрюгиной как трагические, делается вывод, что у лирической героини кто-то умер, что и саму ЛГ ждут беды. Тогда как альтернативное прочтение заключается в том, что подружки, например, живут недалеко от кладбища (как и мы жили в деревне когда-то, обычное для села дело), и там же играют, и естественно, что белка может украсть конфету из мрачного места. То есть возможно и вполне прозаическое прочтение с ноткой ностальгии по детству, особенно человеком с похожим опытом. Углубление Севрюгиной делает стихи интереснее, множа их на её атмосферные оттенки, но опасность — в доведении прочтения до возникновения нового произведения. Как это было у нас в вузе на студиях «текучки», когда педагог объяснял, что стихи Ахматовой «Цветов и неживых вещей…» (где рассказывается про огород и прудовую рыбу, как мы все помним) — на самом деле печальная история о том, как её бросил любовник, что, конечно, романтично, но всё же не прочитывается.
Поскольку эссе — это автопортрет, то каким представляется нам автор? Это редактор, через него идёт поток литературы, но это и женщина — не «редуцированная специалистка», какими бывают «училки с пучком и кошкой», а вполне «благополучная», проявленная в разных сферах жизни личность. Иногда это определяется словом «гармония»: может быть, только такой человек способен видеть разносторонне, «с пяти точек зрения» (Шубинский). Нужно сказать, что здесь присутствует материнский подход к автору, но не в смысле «усыновления Шукшина» (психологическое понятие, рождённое феноменом старушки, отождествлявшей погибшего сына с писателем Шукшиным, нередкий, увы, случай). Также у Севрюгиной есть способность совмещать поэта и его героя, жизнь и текст, принимать всё не «сухой книжностью», а цветущей реальностью. Есть, конечно, противники такого подхода («Мы работаем с текстом!»), но противники есть у всего на свете. Некоторые стихи Елена прочитывает «душой», «как простая русская баба» (кажется, это выражение принадлежит Вере Марецкой), другие же — как специалист с подготовкой, оборачиваясь разными сторонами. Видите ли, стихи могут «рифмоваться» с жизнью читателя, то есть «отзываться», только если похожий опыт есть или был. В противном случае мы будем оценивать красоту слога или сочувствовать бедным крестьянам, но всей полноты авторского мира не ощутим на себе. Бездетной женщине сложно понять, какой бы матерью она была и совпадали бы её ощущения с авторскими или нет, хотя гипотетически она может это реконструировать — в определённом смысле (не в хорошем, не в плохом, а в фактическом) она обеднена. Только личный опыт позволяет понять эмпирически некоторые грани творчества. Мир Севрюгиной в хорошем смысле полнокровный, обыкновенный: «Да щей горшок, да сам большой», — как писал Пушкин, поэтому в качестве камертона она важна. Факт, что у человека лишняя пара ног, делает его опыт уникальным и особенным, может привести к мировой известности как артиста, но делает ли он его ценным и важным для «человека вообще», резонирующим с сердцами соседей напротив — сложный вопрос. Что нам ближе в поэзии — норма или особенное?
Есть ли что-то общее в стихах, избранных Севрюгиной? Мы бы сказали, что это мотивы скоротечности жизни, близости смерти, мира как земного сада и ностальгии по детству. В общем, вполне здоровые приоритеты. Детство исполнено счастья или хотя бы мечты о нём, смерть страшна, кризис ведёт к христианскому самосознанию, совершенство не в человеке, а подчас в запахе «цветов и неживых вещей». Есть ощущение, что средневековая элитарная, но и религиозная культура стоит за подобной гаммой интересов. На мой взгляд, эссеист чаще выбирает «сильные», резонансные стихи, а не руководствуется принципом «по милому и хорош», «пусть тракторист, но мой». Так, взяты классические, программные стихи Евгении Джен Барановой «Приступ»; баллада Бориса Кутенкова «ночь темна, словно речь айзенберга», визионерское Андрея Таврова «За месяц до войны», концептуальные стихи о родах Нади Делаланд «скульптор небесный листающий лес». Симптоматично, что выбрано и скорее юмористическое стихотворение Андрея Фамицкого «Сверху занимаются любовью…», потому что, определённо, этот дар у Фамицкого есть, но мало кто его отмечает, всё это свидетельствует о хорошем слухе производящего отбор. Так закрадывается мысль, что редактор здесь преобладает над «просто женщиной». В то время как выбор Бориса Кутенкова, например, наводит на ощущение, что весь интеллектуально-профессиональный комплекс на время отключён и выбирает ребёнок, который остался один в тёмной комнате: стихи о лисёнке Наты Сучковой, стихи о «плохой маме» Веры Полозковой* и т. д. То есть выбор Севрюгиной я вижу не как эмоциональный или полностью ориентированный на состояние / жизненную ситуацию отбирающего, превалирует профессиональный навык. В то же время её истолкование, хотя иногда оно кажется гиперболизированным культурной линзой, в целом созвучно нам и понятно, в нас не происходит внутреннего противления, тем более шока от утверждения, что это «не шляпа, а слон в удаве». Хорошо ли, что критик понятен читателю, совпадает с ним, «гладко идёт»? Важно решить для себя, в чём именно цель эссеиста. Если вспомнить, что эссе — это жанр, позволяющий выразить себя опосредованно, создать свой автопортрет через контекст, тогда цель Севрюгиной достигнута, возможно даже, что создан в каком-то смысле лучший образ человека таким — как писала Цветаева, — каким его задумал Бог.
* Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. — Прим. ред.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22