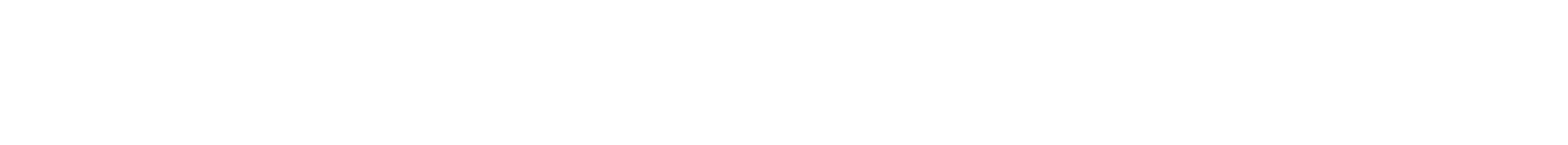Впервые опубликовано в литературном журнале «Формаслов».
Перед нами не собрание критических этюдов или эссе; это, скорее, пёстрые главы, причём из жизни Бориса Кутенкова-читателя, а не Кутенкова-писателя, и тем более не поэтов, о чьих стихотворениях он рассказывает. Из жизни настолько же, насколько из литературы: мы внутри четвёртой стены. Таковы условия серии «Спасибо» — заданная её создателями Андреем Фамицким и Клементиной Ширшовой «прививка дилетантизма к классическому дичку», как объясняет Кутенков в предисловии: «От 20 до 25 <…> любимых стихотворений, к каждому из которых предложено написать короткий комментарий <…> необходимость хоть как-то описать собственную благодарность каждому из любимых стихотворений. Такой личностный компонент — необходимое средство приближения читателя к материалу».
Что профессиональный разбор произведения должен максимально стремиться к объективности, а «нравится» или «не нравится» — слова запретные, мы давно знаем от Михаила Леоновича Гаспарова. И преданно следуем его заветам. Однако… бывают же и у профессионала от литературы человеческие чувства и реакции. Наш предмет, если его не любить, обладает способностью выхолащивать нас же: профессиональное выгорание критика, литературоведа, филолога происходит тотчас после исчерпания эмоций. Другое дело, что чувства мы со студенческой скамьи учимся скрывать и даже тщательно прятать, для чего существует масса лексических, синтаксических, семантических приёмов.
Парадоксально, если вдуматься. Критика пишется, чтобы привлечь читателя-непрофессионала к такой-то книге или такому-то автору; процесс привлечения, или заражения, даст результат только при демонстрации личной вовлечённости аналитика, ибо нет ничего более убедительного, чем чужой опыт — живой интерес другого человека. Анализ пишущего о литературе должен быть и эмоциональным, и логичным, и объективным, и субъективным одновременно — иначе удастся обратить внимание на предмет лишь десятка коллег, добрая половина которых отреагирует из обычной вежливости.
Серия «Спасибо» — выход для культуртрегера: он может открыто продемонстрировать свою любовь к тому или иному тексту, а при необходимости подкрепить её и разбором произведения. Что, собственно, и делает Кутенков. Он учитывает при разговоре о том или ином тексте и чудо, и тайну, без которых не бывает искусства, и человеческое, слишком человеческое. Так, завершая этюд о стихотворении Бориса Рыжего «Погадай мне, цыганка, на медный грош…», он пишет: «Здесь — та концентрация тайны лирики, благодаря которой стихотворение и утверждает себя в правах. Происходит магическое проникновение в чужое сознание». А рассуждение о «Левкои, ласточки и маки…» Антона Морозова содержит прямое объяснение того, как отзывается чужое слово — при познании эстетики и смысла: «Стихотворение Морозова <…> кажется написанным как будто о состоянии современного искусства — его рациональном и расчётливом фланге <…> А за символическим рядом может прочитываться и история человеческой жизни — от детства с его „сердца розовой мышцей“ до неизбежного переворота, падения иллюзий; и обратное движение мира к утраченной красоте — сначала от рая до грехопадения, но всё же затем „жизнь кончается стихом“. Мне дорого стихотворение Антона Морозова этой фиксацией утраченного рая».
В целом же «25 писем…» станут, надеюсь, дороги читателю ещё и потому, что за каждой строкой прочитывается не только желание автора поделиться своей любовью к текстам с любым, кто откроет книгу (как всегда, это значит — найдёт письмо в бутылке), но и подробный, глубокий разговор с самим собой. Результаты этих бесед автор до нас не донесёт, и правильно сделает; но ведь и мы, отразив его отражение, ничего ему не скажем, как бы он ни хотел. Наше совокупное неска́занное образует, как это всегда и бывает, силовое поле литературного притяжения, манящее — в пору самого глубокого читательского кризиса — всё новых и новых мошек к огонькам искусства.
О крайностях субъективизма сожалеет и Кутенков, например, в разговоре о стихотворении Олега Дозморова «В Москве, передают, забиты рестораны…»: «<…> под стихотворением, выложенным на странице харьковского поэта Ирины Евсы, — откуда я и узнал о существовании дозморовского текста, только потом прочитав его в „Волге“, — развернулось обсуждение, которое сплошь сводилось к тому, хорошо или плохо, что в Москве в это время забиты рестораны. И вообще, правда ли, что они забиты. И живые свидетельства о том, в каком районе забиты или не забиты… Ни слова о стихотворении как об артефакте». Сам Кутенков умеет определить эстетическую доминанту текста и насладиться ею: «Ни одного слова не произнесено впрямую (вполне в духе времени, но ведь и в духе поэзии тоже)».
Что рассказ о том или ином стихотворении для него наслаждение, становится ясно с первых строк книги. Что каждый текст стал фактом его человеческой биографии — тоже. Однако, в отличие от жизненных реалий, любой сюжет, связанный с искусством, не просто становится, но и остаётся — на длительное время, иногда и навсегда. Это факт не случившийся, но длящийся, случающийся долго.
Как и благодарность — если она настоящая, то длится долго, становясь одной из основ личности. Как и сами стихи, неожиданно становящиеся набором внутренних знаков, по которым читатель распознаёт сам себя. Удивительно, что при определении своего 25-членного семиозиса Кутенков выбрал — совершенно в духе Фихте или Бахтина — произведения поэтов, непохожих (во всяком случае, на посторонний взгляд) на него самого, Иных, Других, «Не-Я»: это Борис Рыжий, упомянутый Дозморов, Михаил Лермонтов, Борис Слуцкий, Татьяна Бек, Марина Вахто, Анна Ахматова и другие. То есть не сплошь Иных, есть и похожие (Ганна Шевченко или Анна Русс, например), но не близость поэтик определяет предпочтение. «Не-Я» порой скажет обо мне больше, чем «Я», и надо уметь расслышать.
Вера Калмыкова
25 писем о любви
Борис Кутенков. 25 писем о русской поэзии. — М.: Синяя гора, 2024. — 132 с. — (Спасибо)
Перед нами не собрание критических этюдов или эссе; это, скорее, пёстрые главы, причём из жизни Бориса Кутенкова-читателя, а не Кутенкова-писателя, и тем более не поэтов, о чьих стихотворениях он рассказывает. Из жизни настолько же, насколько из литературы: мы внутри четвёртой стены. Таковы условия серии «Спасибо» — заданная её создателями Андреем Фамицким и Клементиной Ширшовой «прививка дилетантизма к классическому дичку», как объясняет Кутенков в предисловии: «От 20 до 25 <…> любимых стихотворений, к каждому из которых предложено написать короткий комментарий <…> необходимость хоть как-то описать собственную благодарность каждому из любимых стихотворений. Такой личностный компонент — необходимое средство приближения читателя к материалу».
Что профессиональный разбор произведения должен максимально стремиться к объективности, а «нравится» или «не нравится» — слова запретные, мы давно знаем от Михаила Леоновича Гаспарова. И преданно следуем его заветам. Однако… бывают же и у профессионала от литературы человеческие чувства и реакции. Наш предмет, если его не любить, обладает способностью выхолащивать нас же: профессиональное выгорание критика, литературоведа, филолога происходит тотчас после исчерпания эмоций. Другое дело, что чувства мы со студенческой скамьи учимся скрывать и даже тщательно прятать, для чего существует масса лексических, синтаксических, семантических приёмов.
Парадоксально, если вдуматься. Критика пишется, чтобы привлечь читателя-непрофессионала к такой-то книге или такому-то автору; процесс привлечения, или заражения, даст результат только при демонстрации личной вовлечённости аналитика, ибо нет ничего более убедительного, чем чужой опыт — живой интерес другого человека. Анализ пишущего о литературе должен быть и эмоциональным, и логичным, и объективным, и субъективным одновременно — иначе удастся обратить внимание на предмет лишь десятка коллег, добрая половина которых отреагирует из обычной вежливости.
Серия «Спасибо» — выход для культуртрегера: он может открыто продемонстрировать свою любовь к тому или иному тексту, а при необходимости подкрепить её и разбором произведения. Что, собственно, и делает Кутенков. Он учитывает при разговоре о том или ином тексте и чудо, и тайну, без которых не бывает искусства, и человеческое, слишком человеческое. Так, завершая этюд о стихотворении Бориса Рыжего «Погадай мне, цыганка, на медный грош…», он пишет: «Здесь — та концентрация тайны лирики, благодаря которой стихотворение и утверждает себя в правах. Происходит магическое проникновение в чужое сознание». А рассуждение о «Левкои, ласточки и маки…» Антона Морозова содержит прямое объяснение того, как отзывается чужое слово — при познании эстетики и смысла: «Стихотворение Морозова <…> кажется написанным как будто о состоянии современного искусства — его рациональном и расчётливом фланге <…> А за символическим рядом может прочитываться и история человеческой жизни — от детства с его „сердца розовой мышцей“ до неизбежного переворота, падения иллюзий; и обратное движение мира к утраченной красоте — сначала от рая до грехопадения, но всё же затем „жизнь кончается стихом“. Мне дорого стихотворение Антона Морозова этой фиксацией утраченного рая».
В целом же «25 писем…» станут, надеюсь, дороги читателю ещё и потому, что за каждой строкой прочитывается не только желание автора поделиться своей любовью к текстам с любым, кто откроет книгу (как всегда, это значит — найдёт письмо в бутылке), но и подробный, глубокий разговор с самим собой. Результаты этих бесед автор до нас не донесёт, и правильно сделает; но ведь и мы, отразив его отражение, ничего ему не скажем, как бы он ни хотел. Наше совокупное неска́занное образует, как это всегда и бывает, силовое поле литературного притяжения, манящее — в пору самого глубокого читательского кризиса — всё новых и новых мошек к огонькам искусства.
О крайностях субъективизма сожалеет и Кутенков, например, в разговоре о стихотворении Олега Дозморова «В Москве, передают, забиты рестораны…»: «<…> под стихотворением, выложенным на странице харьковского поэта Ирины Евсы, — откуда я и узнал о существовании дозморовского текста, только потом прочитав его в „Волге“, — развернулось обсуждение, которое сплошь сводилось к тому, хорошо или плохо, что в Москве в это время забиты рестораны. И вообще, правда ли, что они забиты. И живые свидетельства о том, в каком районе забиты или не забиты… Ни слова о стихотворении как об артефакте». Сам Кутенков умеет определить эстетическую доминанту текста и насладиться ею: «Ни одного слова не произнесено впрямую (вполне в духе времени, но ведь и в духе поэзии тоже)».
Что рассказ о том или ином стихотворении для него наслаждение, становится ясно с первых строк книги. Что каждый текст стал фактом его человеческой биографии — тоже. Однако, в отличие от жизненных реалий, любой сюжет, связанный с искусством, не просто становится, но и остаётся — на длительное время, иногда и навсегда. Это факт не случившийся, но длящийся, случающийся долго.
Как и благодарность — если она настоящая, то длится долго, становясь одной из основ личности. Как и сами стихи, неожиданно становящиеся набором внутренних знаков, по которым читатель распознаёт сам себя. Удивительно, что при определении своего 25-членного семиозиса Кутенков выбрал — совершенно в духе Фихте или Бахтина — произведения поэтов, непохожих (во всяком случае, на посторонний взгляд) на него самого, Иных, Других, «Не-Я»: это Борис Рыжий, упомянутый Дозморов, Михаил Лермонтов, Борис Слуцкий, Татьяна Бек, Марина Вахто, Анна Ахматова и другие. То есть не сплошь Иных, есть и похожие (Ганна Шевченко или Анна Русс, например), но не близость поэтик определяет предпочтение. «Не-Я» порой скажет обо мне больше, чем «Я», и надо уметь расслышать.
Не стесняйтесь, пишите и звоните нам
(мы уже на коммутаторе)
(мы уже на коммутаторе)
Россия, г. Москва
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22
Тел.: +7 (915) 184-44-28, +7 (919) 997-07-22