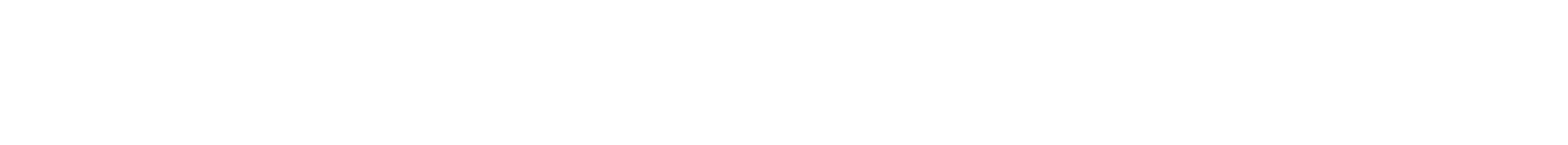Впервые опубликовано в медиа о поэзии Prosodia.
Борис Кутенков в рецензии на дебютную книгу Константина Матросова отметил, что она может «вызвать реакцию из серии „один шаг до графомании“ и „такого уникального голоса не было в современной литературе“»1. Критика уже успела отметить языковые неточности, небрежности, штампы. И да, они не выглядят как приём. Но и тем удивительнее эффект от стихов Матросова: в книге, где так много смерти, поэзия не умирает, даже если поэт проигрывает в схватке с языком. Местами возникающее косноязычие не лишает стихи естественности — наоборот, оно как будто и делает их естественными, живыми. Вот к такому неожиданному (невозможному) выводу подводит «Свалка манекенов», и она в этом смысле очень редкая книга — вообще как будто случай беспрецедентный. Так что о графомании говорить совсем не хочется, да и повода нет. Технические несовершенства перекрываются плотностью образного ряда, засасывающего в себя, как в воронку. Автор последовательно работает с категорией ужаса — и в этом тоже уникальность его пути. В контексте современной поэзии Матросова сложно с кем-то сопоставить — кажется, он такой один. Это поэтика жутких метаморфоз, и сдвиг здесь происходит не на уровне языка, а на уровне художественного образа.
Текст может строиться на приёме параллелизма, когда сквозь один предметный ряд как бы просвечивает другой — тоже предметный, но наделённый символическим содержанием. Такой принцип лежит, например, в основе стихотворения «Подвал»: место для хранения «солений, варений и консервов» ассоциируется с кунсткамерой:
Я угнетён давленьем потолка,
Отсутствием дверных проёмов, окон.
И лампочка работой паука
Превращена в инопланетный кокон.
Сквозняк, приподнимая волоски,
Струится из невидимой прорехи…
И вот уж в банках плавают мозги,
Похожие на грецкие орехи.
Здесь проступает ещё одна (очевидная, в общем-то) аналогия «подвал — могила»: бытовой сюжет трансформируется в мортальный. При этом никакого перемещения в инобытие не происходит — человек овеществляется, объективируется, превращается в «экспонат»: «И в наихудшей из любых кунсткамер / Я, как её последний экспонат, / Во мглу уставясь, в формалине замер». В тексте «Подвал» важна ситуация безвыходности, которая на метафорическом уровне присутствует во всей книге, подводя к мысли о том, что смерть, ужас, абсурд непреодолимы.
Поэтика метаморфоз предполагает и смещение коннотаций, когда безобразное, омерзительное показывается как прекрасное, но такой ход на самом деле работает на эффект двойного отвращения. В качестве примера — стихотворение «Удой»: тараканы «пируют» «вокруг разбередённого соска» спящей женщины, но все герои этой картины испытывают наслаждение: и тараканы, и женщина, которой снится эротический сон, и муж, который на это смотрит, пребывая в состоянии экстаза: финал стихотворения, как говорится, на грани фола.
Автор на всё наводит увеличительное стекло. Образы отталкивают потому, что выписаны очень зримо — во всех подробностях, до мельчайшей детали. Если эти детали сами по себе вполне безобидны, то при сильном увеличении начинают выглядеть угрожающе. Из удачно найденных слов — «церка» (неоднократно встречается в книге): образ имеет и визуальную, и аудиальную природу; звук возникает уже внутри самого слова, исходит из его фонетического облика:
Трепещут церки, вставшие кольцом,
Как фалды макабрического фрака…
Читая Матросова, можно подумать, что его интересуют ситуации, в которых проявляется склонность человека к противоестественному поведению, болезненным отклонениям: тот же «Удой», или «Мишка», или «Водитель»: гибель лисы («Она приятно хрустнула под шиной») вызывает у героя улыбку наслаждения. И этой улыбки никто не видит: автор как бы подловил человека в момент, когда в нём шевельнулось что-то тёмное. Неудивительно, что самые частотные лексемы в словаре Матросова — «мрак», «тьма», «ночь». Они прочитываются и в метафорическом ключе: эта тьма не только внешняя, но и внутренняя. Сюжет погружения во внутренний мрак возникает уже в первом стихотворении книги («Во мраке внутреннем с трудом нашарив / Запомнившуюся входную дверь»).
Что же на самом деле в книге «Свалка манекенов» такого уж шокирующего, если автор говорит про ту тёмную сторону человеческого «я», которая в принципе у каждого есть? Из её проявлений — и просто наслаждение омерзительным («Удой»), и бессознательная тяга к пугающему и тревожащему («Казнь», «Утопленница»), и отвращение, наоборот, по отношению к естественному, но всё же находящемуся за гранью понятного, за гранью «этого мира», воспринятому как противоестественное:
Я не люблю беременных. Внутри
У них, заключены в кровавый кокон,
Осклизлые гниют нетопыри
Во мгле бурлящей без дверей и окон.
Самое «кровавое» стихотворение (хотя живая кровь в нём даже не проливается) — это «Мишка», но детский садизм (ужасающий, конечно, настолько выразительно он выписан) здесь показан как часть обязательного опыта, горькой школы жизни («Нравственный закон не убыл / Вовсе в нас — так каждый щупал, / Проверял на прочность мир»). Краски уж очень сгущены, поэтому читать текст невыносимо, но если отстраниться от гиперболизации, то останется достоверный в своём психологизме нарратив.
Тёмная сторона человеческой психики в книге Матросова встречается с тёмной стороной мира — с иррациональным, необъяснимым, странным. Свалка манекенов (образ, лежащий в основе стихотворения, которое дало книге название) ужасает именно своей странностью, нарушающей понятную логику развёртывания пространства: оно начинает обретать лиминальные, пограничные черты:
Лишённые примет и черт особых, лица
Желают меж собой в одно сознанье слиться.
Дождь капает на них, пустые лужи вспенив.
Лежит во тьме густой концлагерь манекенов.
Можно говорить о влиянии на поэтику Матросова такого жанра кино, как лиминальный хоррор. Он основан на чувстве тревоги от нахождения в переходных, неестественно пустых или сюрреалистичных пространствах: возникает ощущение размывания границ реальности, обыденное начинает восприниматься как кошмарное. Генетически к лиминальному хоррору и вообще к эстетике лиминальности восходят стихотворения «Подвал», «Гостиница» («Из вентиляции мне шепчут что-то души, / Что сгинули чуть ранее моей»), «Осень на территории склада» («И в тумане, будто звери, / Движутся грузовики»), «Чужая школа» («Здесь ничего от школы не осталось»), «На отшибе» («Нет вокруг на несколько миль / Никого, только пыль…»).
Человек у Матросова сталкивается с неведомым, с хтоническим, с хаосом, с «той стороной», он заглядывает за грань: «Я что-то видел подо льдом», «Но это чья рука?» Чтобы как-то всё упорядочить, автор пытается дать неведомому и страшному название: «Шелухи — это то, что неведомо нам». Вообще каждое стихотворение в книге имеет название, что тоже прочитывается как попытка упорядочить хаос (сюда же можно отнести и тяготение к твёрдой форме — к жанру сонета).
Экспликация бессознательных страхов и в целом обращение к бессознательному (отсюда сквозной мотив сна, ситуация ночного кошмара) — важные аспекты поэтики Матросова. Её корни — в бодлеровских «Цветах зла», в эстетике старших символистов, в хронотопе страшной баллады, в картинах Босха, в садистских стишках, в кинематографе Луиса Бунюэля, Ким Ки Дука, Ари Астера, Ларса фон Триера. Но ещё её истоки — в аналитической психологии Фрейда и Юнга. Для Матросова важно именно архетипическое — не современное. Поэтому в «Свалке манекенов» так много условного: сами декорации, в которые вписаны сюжеты, часто намеренно оторваны от реалий сегодняшнего дня, пронизаны духом прошлого («Река из возков и подвод, / Кусает мундштук ошалелая лошадь»; «Она бежала, выронив корзину / Постиранного с порошком белья»).
Эта книга не про ужасы современной жизни, а про ужас вечный — первобытный. У автора нет цели эпатировать читателя, напустить на него страха: Матросова интересуют глубины человеческой психики, пустоты бытия и его тёмная изнанка. Но страшная книга не так уж страшна — в конце концов, она погружает в стихию воображения. Многие картины и ситуации воображаемы («Фантазией моей нелепо сдобрясь») — и в этом тоже есть своего рода утешительный момент: словно объективная реальность не наполнена таким ужасом, каким переполнено человеческое сознание. А может, именно это больше всего и пугает.
Ирина Кадочникова
«Во мраке внутреннем» — о книге Константина Матросова
Борис Кутенков в рецензии на дебютную книгу Константина Матросова отметил, что она может «вызвать реакцию из серии „один шаг до графомании“ и „такого уникального голоса не было в современной литературе“»1. Критика уже успела отметить языковые неточности, небрежности, штампы. И да, они не выглядят как приём. Но и тем удивительнее эффект от стихов Матросова: в книге, где так много смерти, поэзия не умирает, даже если поэт проигрывает в схватке с языком. Местами возникающее косноязычие не лишает стихи естественности — наоборот, оно как будто и делает их естественными, живыми. Вот к такому неожиданному (невозможному) выводу подводит «Свалка манекенов», и она в этом смысле очень редкая книга — вообще как будто случай беспрецедентный. Так что о графомании говорить совсем не хочется, да и повода нет. Технические несовершенства перекрываются плотностью образного ряда, засасывающего в себя, как в воронку. Автор последовательно работает с категорией ужаса — и в этом тоже уникальность его пути. В контексте современной поэзии Матросова сложно с кем-то сопоставить — кажется, он такой один. Это поэтика жутких метаморфоз, и сдвиг здесь происходит не на уровне языка, а на уровне художественного образа.
Текст может строиться на приёме параллелизма, когда сквозь один предметный ряд как бы просвечивает другой — тоже предметный, но наделённый символическим содержанием. Такой принцип лежит, например, в основе стихотворения «Подвал»: место для хранения «солений, варений и консервов» ассоциируется с кунсткамерой:
Я угнетён давленьем потолка,
Отсутствием дверных проёмов, окон.
И лампочка работой паука
Превращена в инопланетный кокон.
Сквозняк, приподнимая волоски,
Струится из невидимой прорехи…
И вот уж в банках плавают мозги,
Похожие на грецкие орехи.
Здесь проступает ещё одна (очевидная, в общем-то) аналогия «подвал — могила»: бытовой сюжет трансформируется в мортальный. При этом никакого перемещения в инобытие не происходит — человек овеществляется, объективируется, превращается в «экспонат»: «И в наихудшей из любых кунсткамер / Я, как её последний экспонат, / Во мглу уставясь, в формалине замер». В тексте «Подвал» важна ситуация безвыходности, которая на метафорическом уровне присутствует во всей книге, подводя к мысли о том, что смерть, ужас, абсурд непреодолимы.
Поэтика метаморфоз предполагает и смещение коннотаций, когда безобразное, омерзительное показывается как прекрасное, но такой ход на самом деле работает на эффект двойного отвращения. В качестве примера — стихотворение «Удой»: тараканы «пируют» «вокруг разбередённого соска» спящей женщины, но все герои этой картины испытывают наслаждение: и тараканы, и женщина, которой снится эротический сон, и муж, который на это смотрит, пребывая в состоянии экстаза: финал стихотворения, как говорится, на грани фола.
Автор на всё наводит увеличительное стекло. Образы отталкивают потому, что выписаны очень зримо — во всех подробностях, до мельчайшей детали. Если эти детали сами по себе вполне безобидны, то при сильном увеличении начинают выглядеть угрожающе. Из удачно найденных слов — «церка» (неоднократно встречается в книге): образ имеет и визуальную, и аудиальную природу; звук возникает уже внутри самого слова, исходит из его фонетического облика:
Трепещут церки, вставшие кольцом,
Как фалды макабрического фрака…
Читая Матросова, можно подумать, что его интересуют ситуации, в которых проявляется склонность человека к противоестественному поведению, болезненным отклонениям: тот же «Удой», или «Мишка», или «Водитель»: гибель лисы («Она приятно хрустнула под шиной») вызывает у героя улыбку наслаждения. И этой улыбки никто не видит: автор как бы подловил человека в момент, когда в нём шевельнулось что-то тёмное. Неудивительно, что самые частотные лексемы в словаре Матросова — «мрак», «тьма», «ночь». Они прочитываются и в метафорическом ключе: эта тьма не только внешняя, но и внутренняя. Сюжет погружения во внутренний мрак возникает уже в первом стихотворении книги («Во мраке внутреннем с трудом нашарив / Запомнившуюся входную дверь»).
Что же на самом деле в книге «Свалка манекенов» такого уж шокирующего, если автор говорит про ту тёмную сторону человеческого «я», которая в принципе у каждого есть? Из её проявлений — и просто наслаждение омерзительным («Удой»), и бессознательная тяга к пугающему и тревожащему («Казнь», «Утопленница»), и отвращение, наоборот, по отношению к естественному, но всё же находящемуся за гранью понятного, за гранью «этого мира», воспринятому как противоестественное:
Я не люблю беременных. Внутри
У них, заключены в кровавый кокон,
Осклизлые гниют нетопыри
Во мгле бурлящей без дверей и окон.
Самое «кровавое» стихотворение (хотя живая кровь в нём даже не проливается) — это «Мишка», но детский садизм (ужасающий, конечно, настолько выразительно он выписан) здесь показан как часть обязательного опыта, горькой школы жизни («Нравственный закон не убыл / Вовсе в нас — так каждый щупал, / Проверял на прочность мир»). Краски уж очень сгущены, поэтому читать текст невыносимо, но если отстраниться от гиперболизации, то останется достоверный в своём психологизме нарратив.
Тёмная сторона человеческой психики в книге Матросова встречается с тёмной стороной мира — с иррациональным, необъяснимым, странным. Свалка манекенов (образ, лежащий в основе стихотворения, которое дало книге название) ужасает именно своей странностью, нарушающей понятную логику развёртывания пространства: оно начинает обретать лиминальные, пограничные черты:
Лишённые примет и черт особых, лица
Желают меж собой в одно сознанье слиться.
Дождь капает на них, пустые лужи вспенив.
Лежит во тьме густой концлагерь манекенов.
Можно говорить о влиянии на поэтику Матросова такого жанра кино, как лиминальный хоррор. Он основан на чувстве тревоги от нахождения в переходных, неестественно пустых или сюрреалистичных пространствах: возникает ощущение размывания границ реальности, обыденное начинает восприниматься как кошмарное. Генетически к лиминальному хоррору и вообще к эстетике лиминальности восходят стихотворения «Подвал», «Гостиница» («Из вентиляции мне шепчут что-то души, / Что сгинули чуть ранее моей»), «Осень на территории склада» («И в тумане, будто звери, / Движутся грузовики»), «Чужая школа» («Здесь ничего от школы не осталось»), «На отшибе» («Нет вокруг на несколько миль / Никого, только пыль…»).
Человек у Матросова сталкивается с неведомым, с хтоническим, с хаосом, с «той стороной», он заглядывает за грань: «Я что-то видел подо льдом», «Но это чья рука?» Чтобы как-то всё упорядочить, автор пытается дать неведомому и страшному название: «Шелухи — это то, что неведомо нам». Вообще каждое стихотворение в книге имеет название, что тоже прочитывается как попытка упорядочить хаос (сюда же можно отнести и тяготение к твёрдой форме — к жанру сонета).
Экспликация бессознательных страхов и в целом обращение к бессознательному (отсюда сквозной мотив сна, ситуация ночного кошмара) — важные аспекты поэтики Матросова. Её корни — в бодлеровских «Цветах зла», в эстетике старших символистов, в хронотопе страшной баллады, в картинах Босха, в садистских стишках, в кинематографе Луиса Бунюэля, Ким Ки Дука, Ари Астера, Ларса фон Триера. Но ещё её истоки — в аналитической психологии Фрейда и Юнга. Для Матросова важно именно архетипическое — не современное. Поэтому в «Свалке манекенов» так много условного: сами декорации, в которые вписаны сюжеты, часто намеренно оторваны от реалий сегодняшнего дня, пронизаны духом прошлого («Река из возков и подвод, / Кусает мундштук ошалелая лошадь»; «Она бежала, выронив корзину / Постиранного с порошком белья»).
Эта книга не про ужасы современной жизни, а про ужас вечный — первобытный. У автора нет цели эпатировать читателя, напустить на него страха: Матросова интересуют глубины человеческой психики, пустоты бытия и его тёмная изнанка. Но страшная книга не так уж страшна — в конце концов, она погружает в стихию воображения. Многие картины и ситуации воображаемы («Фантазией моей нелепо сдобрясь») — и в этом тоже есть своего рода утешительный момент: словно объективная реальность не наполнена таким ужасом, каким переполнено человеческое сознание. А может, именно это больше всего и пугает.
- Кутенков Б. «Груз 200» от современной поэзии // Дегуста. 2025. №24.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru