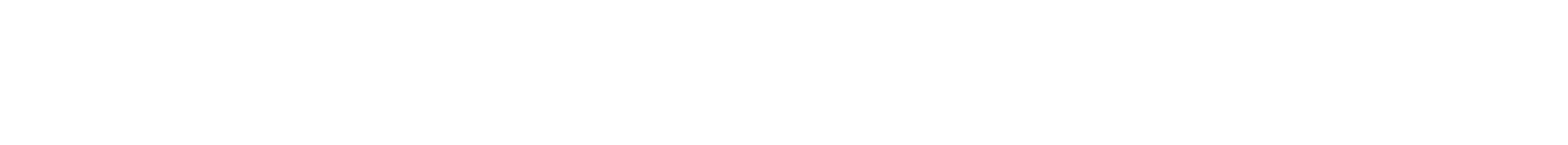Впервые опубликовано в литературном журнале «Волга».
Книги подобного рода всегда — авторский риск. В каком-то смысле отчаянный, в хороших образцах — рассчитанный. Дневниковые записи сродни мемуарам, и за них автору приходится отвечать и собственной репутацией уже только потому, что решился их издать. В эпоху соцсетей и мессенджеров, открытых любому ветру, в чём вообще смысл такой траты сил и бумаги, если не подчеркнуть собственную значимость?
Всё не так просто с дневниками. Есть, конечно, и пустяковые. А есть интересные, помогающие понять, не откладывая на долгий срок, явления сегодняшнего дня. Это касается в первую очередь записей, условно говоря, профессиональных, затрагивающих какую-либо область знания или творчества. Автор нашей книги — критик, поэт, культуртрегер — заявил свое собрание заметок из телеграм-канала как книгу о классиках, современниках и литературном быте.
Новые особенности коммуникации, обязывающие быть на виду, тем парадоксально лишающие частное слово веса, а личность — прав на закрытость, стали социальной проблемой, что находит отражение и в этой книге. Недаром автор прямо рассуждает об идеале амбиверта — человека, который легко встраивается в ситуацию коммуникации и так же легко из неё выходит. Быструю перезагрузку автор дневника считает очевидно полезной привычкой. Кажется, запрос на более личный, эффективный контакт задан публикацией этого дневника на бумаге.
Книга, о которой идёт речь, может вызвать раздражение, будучи в достаточной степени эгоцентричной — но отчасти этого требует жанр. Не открыв собственных пристрастий и принципов, слабостей и желаний, автор лишил бы нас отправной точки, фактически — героя, с которым мы соглашаемся или с которым спорим. Да, местами книга кажется затянутой, иногда — кокетливой. Но противоречие между интимностью дневника и желанием нравиться читателю не переходит допустимую границу и не рискует гораздо большим и ценным, что в ней есть, — умением ставить проблему, формулировать неудобные вопросы в её пределах, смелость выразить на их счёт собственное мнение. Мы здесь не увидим ни воинственной аполитичности, ни грубых политических инвектив. Все сложные темы — в режиме личного размышления обо всём, что касается круга интересов: замечания о литературном сообществе, интроспективные заметки о прочтении старых книг, горячие рассуждения о самоопределении молодых авторов, их ожиданиях — в том числе о себе как о поэте. И, конечно, о том, как и с чем работает критика — позиция критика как некая направляющая заявлена уже в названии. В общем и целом, речь — об искусстве, уточняя — о художественной ценности как таковой.
В давней статье «Назад — к Орфею» («Новый мир», № 3 за 1988 год) критик Ирина Роднянская жёстко констатирует дефицит романтического фатализма в служении Музе у поэтов целого поколения — восьмидесятых. Мне показалось любопытным, что наша книга-дневник представляет собой своеобразное свидетельство того, что такой романтизм служения всё же не исчез. Более того, хотя литераторы сегодняшнего времени и достаточно прагматичны, у них есть запрос на большее — высокопарно выражаясь, их душа требует некой высшей цели. И этот градус в книге не просто заметен, но высок. Кем быть — «юродивым проповедником» или же медийным персонажем? — задаётся вопросом автор, и, очевидно, не только от своего собственно лица, но, возможно, и от лица поколения.
Об этой романтической нагруженности свидетельствуют и замечания относительно литературного, поэтического «мессианства», слышанные мною раньше лишь от писателей старшего поколения и вдруг высказанные здесь: «Нельзя отрицать, что явится талантливый автор и перевернёт „систему“». Ожидание гения, который должен предложить что-то принципиальное новое и тем спасти ситуацию (и литературный мир), кажется больше психологическим буфером или разрядкой, чем объективной необходимостью. Можно спорить об этом, однако живучесть мифологемы о «поэте-cпасителе» раскрывает внутреннюю неудовлетворённость самого сообщества. «Нет, ты не Пушкин. Но покуда / Не видно солнца ниоткуда…» — эти некрасовские строки в определённых обстоятельствах приобретают даже иронический оттенок.
Во многом ожидание поэта, который «перевернёт систему», связано в этих размышлениях с двумя моментами. Первый — сама система, которая, как даёт понять автор, находится в стагнации и ситуативной неопределённости. А второй (связанный, конечно, с первым в сложной комбинации) — с требованием служения в том смысле, который имела в виду Роднянская. Именно со служением, а не с жаждой некой формальной, иллюзорной, условной новизны — ибо что она вообще такое?
Поэтому-то здесь, в книге, неоднократно и звучит терзающий вопрос: как разглядеть, не пропустить гения? Кутенков замечает при этом, что понимание гения, который всё изменит, разное — в том числе и у разных поколений. Но именно порыв служения Музе и определяет его, этого самого «гения», как некую идеальную фигуру — именно это победительное свойство имеет решающее значение в направлении внутреннего, личного диалога конкретно в этих дневниках. Полагаю, что авторский запрос напрямую связан не только с иерархией (каноном) в литературе — это, в большей степени, формальность. Но главное здесь всё же попытка самоопределиться в лучшем — пусть и относительно мифологической идеальной фигуры: на кого равняться? Бескорыстие — то, о чём мы все давно грустим.
Кутенков то штурмует высоты, толково размышляя о классиках и тенденциях большой литературы — с азартом личного пристрастия, местами — спорно (соображения о личных пристрастиях в книге проговорены, автор никого не вводит в заблуждение, не настаивает на своей точке зрения как на единственно возможной), то шокирует, рассуждая о «низком» продукте: «Стихи берут за душу непритязательную публику, будучи предсказуемыми в каждом моменте, — и, что скрывать, даже меня кое-где эмоционально цепляли, как может зацепить попсовая песня». Высоколобых товарищей, конечно, удивят и признания в нежных чувствах к ранним продуктам детективщицы Марининой. Но вопрос взаимовлияния массовой и высокой литературы неизбежен (в том числе и на примере их столкновения в биографии одного, конкретного литератора). И вопрос этот совершенно не трагичен, как может показаться, — но его актуальность возросла вместе с возросшими тиражами печатного масскульта. Как человек, прекрасно знающий свой предмет, Кутенков не только может, но даже обязан считаться с этим, анализируя влияние в том числе и на личном примере, с позиции личного пристрастия.
При этом острота вопроса о пристрастности и беспристрастности возникает в книге то и дело — и относительно каких-то имён в литературе, и явлений, и конкретной ситуации авторского выбора: всегда ли я объективен и всегда ли должен стремиться к объективности? Для автора, особенно для критика, важно само понимание объективности как явления и подхода — насколько она вообще возможна и насколько равна беспристрастности?
Думаю, что сегодня все заинтересованные в литературе в какой-то мере стоят перед выбором выбора, простите за тавтологию. Под лупой мы особенно внимательно рассматриваем сегодня именно свою способность подойти беспристрастно к тому, что по тем или иным причинам исключается из литпроцесса, приобретает дополнительное звучание, актуализирует скрытые смыслы. Всё стало неверным, зыбким, потерявшим берега — нужны новые точки опоры и, возможно, отсчёта, ведь как быть в ситуации, когда, говоря словами автора книги, «всю нашу критериальность растёрли и выбросили»? «Сейчас всё меньше надежды, что вменяемые культуртрегеры сойдутся на отнесении определённых имён к какой-либо из перечисленных категорий; всё меньше её в силу отсутствия полемики и предельного разобщения (усиленного, естественно, политизацией литературного поля)» — сказано несколько обречённо, но, по существу, верно. И неважно, о каких именах и категориях идёт речь, главное здесь — «в силу отсутствии полемики и предельного разобщения». Есть ли шанс на какой-то общий язык? Вопрос открыт.
Кутенков, как представитель молодого поколения, предъявляет и естественный счёт младших поколений старшим: они не оправдали своего старшинства, на них лежит вина за разрушение иерархичности, от которой традиционно отталкиваются новые поколения авторов.
Но, задаваясь вопросом: «Не выдуманная ли она по своей сути?», — автор констатирует, что и новое поколение уже само может что-то диктовать и «выстраивать свои институции», вопреки старшему, которое не хочет брать потомков в расчёт. Во многом здесь слышится и общее возмущение младшего поколения — на минуточку, почти любого нового поколения, вынужденного штурмовать редакции толстых журналов, спорить с редакторами, что-то доказывать старшим. Весьма симптоматичным кажется мне обращение автора к редакторам (как, в определённом смысле, тоже старшим). И они предстают лицами, в литпроцессе незаинтересованными, с «дряхлыми понтами» и «старческим задором». И, да простят меня редакторы и вообще все «старшие», меня позиция автора этого дневника радует. Младшие поколения просто обязаны обладать юношеским гонором, который требует скидывать с парохода современности всё, что кажется отжившим: это лишь сигнал о здоровье поколения, о том, что младшие вполне энергичны и готовы к свершениям.
Более того, чувствуя изменения, озвучивая проблемы, младшие предлагают варианты решения. Они ощущают, что система не готова меняться изнутри им навстречу — так может, нам нужны не столько гении поэзии, сколько редакторы-гении, культуртрегеры-гении? Да, требуются качественные изменения — но не поэтому ли сегодня и появляются электронные журналы и проекты, которые дают более широкий взгляд на современную литературу. К таким проектам, кстати, сам автор имеет прямое отношение, о чем также неоднократно упоминает в книге.
Почему же в таком случае в этих организованных дневниковых записях местами прочитывается усталая безнадёжность — если всё течёт естественно, если дело так или иначе движется в лучшую сторону? Потому, очевидно, что обострилось влияние на литературу и литературное сообщество некой общей угнетающей системы двойных стандартов и посланий.
Людей, сведущих в литературе, конечно, с толку не собьёшь, они отличат искусство от культмассовой поделки. Просто сам факт легитимизации таких поделок — на любом уровне — болезненный удар для тех, кто служит возвышенному, Музе или литпроцессу, назовите как угодно. Но такие общественные эффекты — не новинка, конечно. Загляните хотя бы в статью «Борьба за право писать плохо» Бенедикта Сарнова от того же 1988 года — она отлично раскрывает тему, последовательно связывая ситуацию начала прошлого века с ситуацией, настигшей нас в его конце. Сегодня нас вновь лихорадит. «Сама исходная точка легитимации — искусственная; это принадлежность к дискурсу, первооснова которого вновь — соответствие „гражданской“ позиции, а вовсе не близость текстов неким эстетическим установкам говорящих. Подмена понятий есть подмена понятий, которую вполне иллюстрируют антологии глубоко ненормального времени — причём и с той, и с другой стороны дискурса», — сетует Кутенков. И та и другая сторона дискурса — оппоненты не столько эстетические, сколько, увы, политические. Именно этот момент и тревожит — художественная ценность перестала быть причиной спора. Даже этику подменяют — снова, как бывало не однажды, — политикой. Называть вещи своими именами всегда было неудобно — но как тогда говорить об искусстве? Через неудобство, вопреки? Диагноз из дневника вполне объективен: «О современности пишут мало, а если пишут — то обтекаемо (это тенденция; причины, думаю, объяснять излишне)».
Совмещение человеческого и литературного, этического и эстетического кажется мне главной линией, относительно которой (специально ли, подспудно ли) собрана книга. И, конечно, вопрос личного отношения к происходящему выходит на передний план как позиция личного выбора: кем быть, как быть? Этот же вопрос зашит и в рассуждения о литературном сообществе: разъединение, раскол на группы, которые сегодня принципиально отказываются друг друга понимать — на основаниях внезапного отсутствия общих ценностей, спровоцированного внешними обстоятельствами. Но можно ли, в принципе, говорить о каком-либо единстве, если внешние обстоятельства так влиятельны?
Очевидно, что у истории есть кое-какие соображения на этот счёт. Но когда добираемся наконец до авторского отчаянного признания: «Одиночество писателя в наши дни огромно» — все возможные ответы истории разбиваются о чужое личное переживание здесь и сейчас. В этом и состоит большая сила дневников — общее и частное в них становятся взаимодействующими сторонами, предлагая более достоверную и широкую картину происходящего. Тем более что требование соучастия, живого отклика («движение к отклику есть движение к (само)пониманию»), оказывается обращено даже и не столько к современнику — скорее, к анонимной силе, к нейтральному, к ноосфере как содержащему, а потому, возможно, благоволящему пространству («вытягивание» этого самопознания из пространства»), которое о запросе «возможно, не знает и не делает встречных шагов». И вот вам, пожалуйста: проясняется то странное чувство невостребованности (при, казалось бы, реальной востребованности) — как общее выражение лица в портрете молодого амбициозного человека. Обошёлся бы без меня мир, нужно ли его взбаламучивать, затрагивать ли его «своим настойчивым существованием»? Все в своё время задаются этим вопросом, никогда, увы, не имеющим окончательного ответа.
Общее чувство «нестабильности мира», о котором говорит автор, опасаясь утратить в том числе «святую веру в предназначение», удачно разрешается в этом дневнике «неким идиотским идеализмом»: деятельностью без награды, к которой относится и сочинение стихов, и безденежное издание книг неизвестных поэтов, и прочее культуртрегерство. Делай что должен и будь что будет, как советовали стоики. И тогда при любой, самой сумасшедшей смене временных (и, конечно, вре́менных) декораций, мы способны на большее — и видеть настоящее, и преодолевать искушённость. В конце концов, подлинная свобода — это внутренняя категория самоопознания. Дневники — свидетельство нашего стремления к ней.
Светлана Михеева
В ожидании гения
Книги подобного рода всегда — авторский риск. В каком-то смысле отчаянный, в хороших образцах — рассчитанный. Дневниковые записи сродни мемуарам, и за них автору приходится отвечать и собственной репутацией уже только потому, что решился их издать. В эпоху соцсетей и мессенджеров, открытых любому ветру, в чём вообще смысл такой траты сил и бумаги, если не подчеркнуть собственную значимость?
Всё не так просто с дневниками. Есть, конечно, и пустяковые. А есть интересные, помогающие понять, не откладывая на долгий срок, явления сегодняшнего дня. Это касается в первую очередь записей, условно говоря, профессиональных, затрагивающих какую-либо область знания или творчества. Автор нашей книги — критик, поэт, культуртрегер — заявил свое собрание заметок из телеграм-канала как книгу о классиках, современниках и литературном быте.
Новые особенности коммуникации, обязывающие быть на виду, тем парадоксально лишающие частное слово веса, а личность — прав на закрытость, стали социальной проблемой, что находит отражение и в этой книге. Недаром автор прямо рассуждает об идеале амбиверта — человека, который легко встраивается в ситуацию коммуникации и так же легко из неё выходит. Быструю перезагрузку автор дневника считает очевидно полезной привычкой. Кажется, запрос на более личный, эффективный контакт задан публикацией этого дневника на бумаге.
* * *
Книга, о которой идёт речь, может вызвать раздражение, будучи в достаточной степени эгоцентричной — но отчасти этого требует жанр. Не открыв собственных пристрастий и принципов, слабостей и желаний, автор лишил бы нас отправной точки, фактически — героя, с которым мы соглашаемся или с которым спорим. Да, местами книга кажется затянутой, иногда — кокетливой. Но противоречие между интимностью дневника и желанием нравиться читателю не переходит допустимую границу и не рискует гораздо большим и ценным, что в ней есть, — умением ставить проблему, формулировать неудобные вопросы в её пределах, смелость выразить на их счёт собственное мнение. Мы здесь не увидим ни воинственной аполитичности, ни грубых политических инвектив. Все сложные темы — в режиме личного размышления обо всём, что касается круга интересов: замечания о литературном сообществе, интроспективные заметки о прочтении старых книг, горячие рассуждения о самоопределении молодых авторов, их ожиданиях — в том числе о себе как о поэте. И, конечно, о том, как и с чем работает критика — позиция критика как некая направляющая заявлена уже в названии. В общем и целом, речь — об искусстве, уточняя — о художественной ценности как таковой.
В давней статье «Назад — к Орфею» («Новый мир», № 3 за 1988 год) критик Ирина Роднянская жёстко констатирует дефицит романтического фатализма в служении Музе у поэтов целого поколения — восьмидесятых. Мне показалось любопытным, что наша книга-дневник представляет собой своеобразное свидетельство того, что такой романтизм служения всё же не исчез. Более того, хотя литераторы сегодняшнего времени и достаточно прагматичны, у них есть запрос на большее — высокопарно выражаясь, их душа требует некой высшей цели. И этот градус в книге не просто заметен, но высок. Кем быть — «юродивым проповедником» или же медийным персонажем? — задаётся вопросом автор, и, очевидно, не только от своего собственно лица, но, возможно, и от лица поколения.
Об этой романтической нагруженности свидетельствуют и замечания относительно литературного, поэтического «мессианства», слышанные мною раньше лишь от писателей старшего поколения и вдруг высказанные здесь: «Нельзя отрицать, что явится талантливый автор и перевернёт „систему“». Ожидание гения, который должен предложить что-то принципиальное новое и тем спасти ситуацию (и литературный мир), кажется больше психологическим буфером или разрядкой, чем объективной необходимостью. Можно спорить об этом, однако живучесть мифологемы о «поэте-cпасителе» раскрывает внутреннюю неудовлетворённость самого сообщества. «Нет, ты не Пушкин. Но покуда / Не видно солнца ниоткуда…» — эти некрасовские строки в определённых обстоятельствах приобретают даже иронический оттенок.
Во многом ожидание поэта, который «перевернёт систему», связано в этих размышлениях с двумя моментами. Первый — сама система, которая, как даёт понять автор, находится в стагнации и ситуативной неопределённости. А второй (связанный, конечно, с первым в сложной комбинации) — с требованием служения в том смысле, который имела в виду Роднянская. Именно со служением, а не с жаждой некой формальной, иллюзорной, условной новизны — ибо что она вообще такое?
Поэтому-то здесь, в книге, неоднократно и звучит терзающий вопрос: как разглядеть, не пропустить гения? Кутенков замечает при этом, что понимание гения, который всё изменит, разное — в том числе и у разных поколений. Но именно порыв служения Музе и определяет его, этого самого «гения», как некую идеальную фигуру — именно это победительное свойство имеет решающее значение в направлении внутреннего, личного диалога конкретно в этих дневниках. Полагаю, что авторский запрос напрямую связан не только с иерархией (каноном) в литературе — это, в большей степени, формальность. Но главное здесь всё же попытка самоопределиться в лучшем — пусть и относительно мифологической идеальной фигуры: на кого равняться? Бескорыстие — то, о чём мы все давно грустим.
* * *
Кутенков то штурмует высоты, толково размышляя о классиках и тенденциях большой литературы — с азартом личного пристрастия, местами — спорно (соображения о личных пристрастиях в книге проговорены, автор никого не вводит в заблуждение, не настаивает на своей точке зрения как на единственно возможной), то шокирует, рассуждая о «низком» продукте: «Стихи берут за душу непритязательную публику, будучи предсказуемыми в каждом моменте, — и, что скрывать, даже меня кое-где эмоционально цепляли, как может зацепить попсовая песня». Высоколобых товарищей, конечно, удивят и признания в нежных чувствах к ранним продуктам детективщицы Марининой. Но вопрос взаимовлияния массовой и высокой литературы неизбежен (в том числе и на примере их столкновения в биографии одного, конкретного литератора). И вопрос этот совершенно не трагичен, как может показаться, — но его актуальность возросла вместе с возросшими тиражами печатного масскульта. Как человек, прекрасно знающий свой предмет, Кутенков не только может, но даже обязан считаться с этим, анализируя влияние в том числе и на личном примере, с позиции личного пристрастия.
При этом острота вопроса о пристрастности и беспристрастности возникает в книге то и дело — и относительно каких-то имён в литературе, и явлений, и конкретной ситуации авторского выбора: всегда ли я объективен и всегда ли должен стремиться к объективности? Для автора, особенно для критика, важно само понимание объективности как явления и подхода — насколько она вообще возможна и насколько равна беспристрастности?
Думаю, что сегодня все заинтересованные в литературе в какой-то мере стоят перед выбором выбора, простите за тавтологию. Под лупой мы особенно внимательно рассматриваем сегодня именно свою способность подойти беспристрастно к тому, что по тем или иным причинам исключается из литпроцесса, приобретает дополнительное звучание, актуализирует скрытые смыслы. Всё стало неверным, зыбким, потерявшим берега — нужны новые точки опоры и, возможно, отсчёта, ведь как быть в ситуации, когда, говоря словами автора книги, «всю нашу критериальность растёрли и выбросили»? «Сейчас всё меньше надежды, что вменяемые культуртрегеры сойдутся на отнесении определённых имён к какой-либо из перечисленных категорий; всё меньше её в силу отсутствия полемики и предельного разобщения (усиленного, естественно, политизацией литературного поля)» — сказано несколько обречённо, но, по существу, верно. И неважно, о каких именах и категориях идёт речь, главное здесь — «в силу отсутствии полемики и предельного разобщения». Есть ли шанс на какой-то общий язык? Вопрос открыт.
* * *
Кутенков, как представитель молодого поколения, предъявляет и естественный счёт младших поколений старшим: они не оправдали своего старшинства, на них лежит вина за разрушение иерархичности, от которой традиционно отталкиваются новые поколения авторов.
Но, задаваясь вопросом: «Не выдуманная ли она по своей сути?», — автор констатирует, что и новое поколение уже само может что-то диктовать и «выстраивать свои институции», вопреки старшему, которое не хочет брать потомков в расчёт. Во многом здесь слышится и общее возмущение младшего поколения — на минуточку, почти любого нового поколения, вынужденного штурмовать редакции толстых журналов, спорить с редакторами, что-то доказывать старшим. Весьма симптоматичным кажется мне обращение автора к редакторам (как, в определённом смысле, тоже старшим). И они предстают лицами, в литпроцессе незаинтересованными, с «дряхлыми понтами» и «старческим задором». И, да простят меня редакторы и вообще все «старшие», меня позиция автора этого дневника радует. Младшие поколения просто обязаны обладать юношеским гонором, который требует скидывать с парохода современности всё, что кажется отжившим: это лишь сигнал о здоровье поколения, о том, что младшие вполне энергичны и готовы к свершениям.
Более того, чувствуя изменения, озвучивая проблемы, младшие предлагают варианты решения. Они ощущают, что система не готова меняться изнутри им навстречу — так может, нам нужны не столько гении поэзии, сколько редакторы-гении, культуртрегеры-гении? Да, требуются качественные изменения — но не поэтому ли сегодня и появляются электронные журналы и проекты, которые дают более широкий взгляд на современную литературу. К таким проектам, кстати, сам автор имеет прямое отношение, о чем также неоднократно упоминает в книге.
* * *
Почему же в таком случае в этих организованных дневниковых записях местами прочитывается усталая безнадёжность — если всё течёт естественно, если дело так или иначе движется в лучшую сторону? Потому, очевидно, что обострилось влияние на литературу и литературное сообщество некой общей угнетающей системы двойных стандартов и посланий.
Людей, сведущих в литературе, конечно, с толку не собьёшь, они отличат искусство от культмассовой поделки. Просто сам факт легитимизации таких поделок — на любом уровне — болезненный удар для тех, кто служит возвышенному, Музе или литпроцессу, назовите как угодно. Но такие общественные эффекты — не новинка, конечно. Загляните хотя бы в статью «Борьба за право писать плохо» Бенедикта Сарнова от того же 1988 года — она отлично раскрывает тему, последовательно связывая ситуацию начала прошлого века с ситуацией, настигшей нас в его конце. Сегодня нас вновь лихорадит. «Сама исходная точка легитимации — искусственная; это принадлежность к дискурсу, первооснова которого вновь — соответствие „гражданской“ позиции, а вовсе не близость текстов неким эстетическим установкам говорящих. Подмена понятий есть подмена понятий, которую вполне иллюстрируют антологии глубоко ненормального времени — причём и с той, и с другой стороны дискурса», — сетует Кутенков. И та и другая сторона дискурса — оппоненты не столько эстетические, сколько, увы, политические. Именно этот момент и тревожит — художественная ценность перестала быть причиной спора. Даже этику подменяют — снова, как бывало не однажды, — политикой. Называть вещи своими именами всегда было неудобно — но как тогда говорить об искусстве? Через неудобство, вопреки? Диагноз из дневника вполне объективен: «О современности пишут мало, а если пишут — то обтекаемо (это тенденция; причины, думаю, объяснять излишне)».
Совмещение человеческого и литературного, этического и эстетического кажется мне главной линией, относительно которой (специально ли, подспудно ли) собрана книга. И, конечно, вопрос личного отношения к происходящему выходит на передний план как позиция личного выбора: кем быть, как быть? Этот же вопрос зашит и в рассуждения о литературном сообществе: разъединение, раскол на группы, которые сегодня принципиально отказываются друг друга понимать — на основаниях внезапного отсутствия общих ценностей, спровоцированного внешними обстоятельствами. Но можно ли, в принципе, говорить о каком-либо единстве, если внешние обстоятельства так влиятельны?
Очевидно, что у истории есть кое-какие соображения на этот счёт. Но когда добираемся наконец до авторского отчаянного признания: «Одиночество писателя в наши дни огромно» — все возможные ответы истории разбиваются о чужое личное переживание здесь и сейчас. В этом и состоит большая сила дневников — общее и частное в них становятся взаимодействующими сторонами, предлагая более достоверную и широкую картину происходящего. Тем более что требование соучастия, живого отклика («движение к отклику есть движение к (само)пониманию»), оказывается обращено даже и не столько к современнику — скорее, к анонимной силе, к нейтральному, к ноосфере как содержащему, а потому, возможно, благоволящему пространству («вытягивание» этого самопознания из пространства»), которое о запросе «возможно, не знает и не делает встречных шагов». И вот вам, пожалуйста: проясняется то странное чувство невостребованности (при, казалось бы, реальной востребованности) — как общее выражение лица в портрете молодого амбициозного человека. Обошёлся бы без меня мир, нужно ли его взбаламучивать, затрагивать ли его «своим настойчивым существованием»? Все в своё время задаются этим вопросом, никогда, увы, не имеющим окончательного ответа.
Общее чувство «нестабильности мира», о котором говорит автор, опасаясь утратить в том числе «святую веру в предназначение», удачно разрешается в этом дневнике «неким идиотским идеализмом»: деятельностью без награды, к которой относится и сочинение стихов, и безденежное издание книг неизвестных поэтов, и прочее культуртрегерство. Делай что должен и будь что будет, как советовали стоики. И тогда при любой, самой сумасшедшей смене временных (и, конечно, вре́менных) декораций, мы способны на большее — и видеть настоящее, и преодолевать искушённость. В конце концов, подлинная свобода — это внутренняя категория самоопознания. Дневники — свидетельство нашего стремления к ней.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru