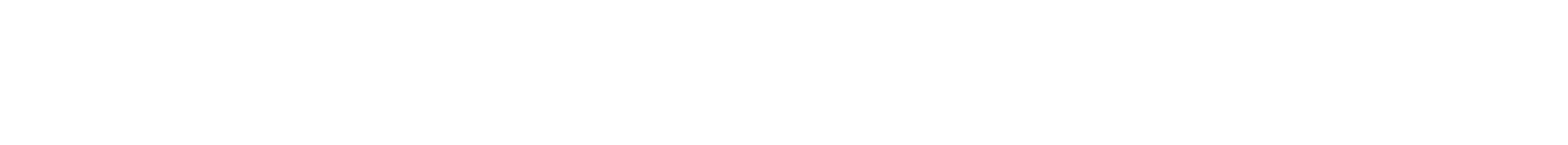Впервые опубликовано в литературном журнале «Урал».
Любое истинное открытие, к какой бы области оно ни принадлежало, нередко ставит под сомнение или и вовсе аннулирует общие места.
В области литературы таким опровержимым общим местом является утверждение, что поэт работает со словом. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не совсем так и слова не существует вне контекста. Внеязыковой пласт поэзии чрезвычайно разнообразен. Так, классическую завершённость, прозрачную стройность пушкинского «Онегина» контрастно оттеняют авторские комментарии к роману. Их составляют житейские и литературные анекдоты, меткие замечания автора на полях своего произведения и проч. и проч. Пушкин работает не столько со словом как таковым, сколько с границей, которая пролегает между житейской весёлостью литературных сплетен и классической завершённостью «Онегина» как художественного целого.
Не случайно сегодня едва ли не ещё одним — очередным — общим местом стало представление о том, что авторским комментарием к роману Пушкин предвосхитил нынешний интернет, который буквально кишит литературными сплетнями, замечаниями по поводу недавно вышедших книг et cetera.
В современном (а значит, вполне пушкинском) ключе построена и книга Бориса Кутенкова «25 писем о русской поэзии». Едва ли оные письма могут быть резко противопоставлены развёрнутым комментариям — речевому жанру, к которому нас всех располагает современный компьютер (а не только Пушкин).
Достаточно упомянуть, что и Кутенков ориентирован не на общие места и высокопарные «измы», а на колоритные частности. Одна из них присутствует в стихотворении Сергея Гандлевского «На смерть И.Б.»:
Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать.
Мы «андроповки» берём…
В данном случае окололитературный быт, который существует за кулисами поэзии, позволяет автору преодолеть штамп, избежать общих мест. В то же время без них литературный быт принял бы самодовлеющий характер. Борис Кутенков проникновенно замечает: «Не побоюсь даже сказать, что такому виду лирики необходима определённая степень попсовости, с которой как раз и совмещаются литературоцентричные координаты, дабы не оставить стихотворение всецелой попсой».
Доля пастозности в стихах Гандлевского обусловлена его принадлежностью к поэтической группе «Московское время», возникшей в эпоху 70-х и нацеленной на историческую конкретику. Не единственной, но, несомненно, значимой составляющей книги Кутенкова являются его комментарии к стихам, в которых массовая стихия парадоксально соседствует с сердечно-сокровенными нотами. Интимно-психологическими, но оттого не менее узнаваемыми на страницах рецензируемой книги являются стихи Бориса Рыжего.
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, от чего умру.
Осмелимся утверждать: там, где можно встретить цыганку, ожидается обстановка не названного, но подразумеваемого вокзала хотя бы уже потому, что цыгане — неприкаянный, кочующий народ. Конечно, в текст необязательно привносить железнодорожные реалии, однако и без них цыганка ожидается в одном из посещаемых общественных мест, будь то хотя бы и базар или любое другое место множественного скопления людей.
И вот эта массовая стихия, извечная спутница бездомного народа, в стихах Рыжего несколько парадоксально сочетается с интимно-сокровенным вопросом: какая судьба ждёт поэта? (Гадание вообще тайное, а не массовое занятие.)
Рыжий пишет от лица цыганки:
Станет сын чужим и чужой жена, отвернутся друзья-враги.
Мотивация трагического одиночества, которое неминуемо ждёт поэта, может быть восстановлена не из текста, а из контекста: как существо, равновеликое вселенной, поэт фатально исторгнут из уютного домашнего круга и даже из среды почитателей.
Борис Кутенков усматривает в участи поэта источник своего рода намеренной ломки слов; в созвучии «чужой жена» ему видится мужской род — свидетельство отчуждения поэта от своих домашних.
Контрастная соотносительность личной трагедии поэта и её подчёркнуто социального (едва ли не массового!) фона прямо или косвенно связана с принадлежностью Бориса Рыжего к уральской поэтической школе. Её приверженцы (не только Борис Рыжий, но и Олег Дозморов) склонны к аристократически-изысканной литературной игре с массовым сознанием. Так, в стихотворении Дозморова, которое Борис Кутенков включил в книгу, индивид-интеллигент контрастно предстаёт на фоне своеобразной поэтической массовки:
В Москве, передают, забиты рестораны…
Если текст содержит нейтральное сообщение, то контекст не является нейтральным хотя бы уже потому, что на сторонне-житейском примере сообщается о положении дел в стране и её древней столице. Более того, пойти в ресторан — это социальный жест, отнюдь не сводящийся к простой физиологической интенции — пойти поесть.
В стихотворении Олега Дозморова значимо то, что не сказано или сказано между строк. Мы вновь убеждаемся: поэт работает с «немым» контекстом едва ли не в большей степени, чем со словом.
Борис Кутенков замечает: «Ни одно слово не произнесено впрямую (вполне в духе времени, но и в духе поэзии тоже)».
Стихи Дозморова, при всей их злободневности, не являются общественно воспитательными, поскольку в них присутствует достоевщина и сумасшедшинка.
Ещё более радикально некрасовские ноты сочетаются с достоевщиной в стихах Дмитрия Гаричева. Поэт обращается к приезжим, к чужакам, как он их понимает:
убирайтесь назад, подмосковье для ленинабадских.
Социальный пафос у Гаричева сочетается едва ли не с достоевской истерикой, с демонстративно скандальным жестом, по поводу чего Борис Кутенков замечает: «и здорово, что концовка именно такая: резкая, несправедливая, задиристо-подростковая. Гуманистическая. Противоречащая бытовой логике. Нарушающая — да к чёрту её — эту самую логику; конечно, в пользу поэзии».
И всё же возникает один вопрос: кому присущи подростковые качества, автору или герою произведения? Если перед нами не слова автора в собственном смысле, остаётся признать, что автор (находящийся «за кадром») ироничнее и шире своего героя. Впрочем, широта поэтической души внутренне оправдывает тот самый эстетически обаятельный перехлёст, о котором с восхищением пишет Борис Кутенков.
В стихах, которые Кутенков опубликовал в своих «Письмах», прослеживается единый умственный зигзаг. Автор, бывало, заведёт разговор на социальную тему, а закончит упоминанием о тайнах счастия и гроба (Рыжий, Гандлевский, Гаричев и др.). Однако в некоторых стихах, собранных Кутенковым, наблюдается и нечто резко противоположное: иррациональное начало, сопряжённое с силами смерти, обретает житейски удобопонятную форму. Так, выказывая необъяснимое влечение к боли, Лена Элтанг пишет:
я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу…
Напрашивается параллель из Достоевского. Жестокий классик некогда сказал: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. …Человек не родится для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием».
Книга Бориса Кутенкова не является просто антологией русского стиха, прокомментированной автором. Раскрытая перед читателем книга Кутенкова содержит прямой или опосредованный ответ на вопрос о том, на каких перепутьях стоит русская поэзия сегодня и какие дороги перед ней открыты. Отдалённо вторя творцу «Онегина», наш современник устремлён к трогательным частностям в поэзии. (В эстетике минимализма выдержана и вся книга.)
Её автор подчас явно, подчас иносказательно свидетельствует о том, что громогласный бас Маяковского сегодня востребован менее, нежели сердечный шёпот Ахматовой. Наблюдения и тезисы Бориса Кутенкова согласуются и с нынешней литературной ситуацией: поэзия перешла из людных стадионов в уютные библиотеки и стала уделом меньшинства, что, однако, не отменяет гениальности Маяковского. Просто сегодня иной век русской поэзии, эпоха гигантизма миновала.
Случайно ли то, что в книгу Бориса Кутенкова включена особая глава об Ахматовой, чья поэзия намеренно тиха. «Ахматовской звать не будут / ни улицу, ни строфу», — напророчила о себе Ахматова, добровольно отрекаясь от славы.
Новая волна русской поэзии, которая, возможно, явится из ахматовских глубин, позволяет нам перефразировать известные слова Евтушенко: «Поэт в России — больше чем поэт». Это значит, что поэт при необходимости берёт на себя глобальную общественную роль и едва ли не пророческую миссию. Однако сегодня мы могли бы сказать, опровергая Евтушенко: «Поэт в России — меньше, чем поэт». Это значит, что поэт сегодня оберегает свободу частного бытия и сам не встаёт на котурны. Он позиционирует себя не в качестве гиганта, а в качестве мягкотелого интеллигента (разумеется, способного испытывать боль и знающего цену страданию человеческому).
Случайно ли то, что в книге Бориса Кутенкова опубликовано стихотворение Ганны Шевченко «В том же платке…», где с долей скепсиса описана эпически суровая личность?
я, говорит, ваш учитель, а вы не слушаете меня…
По контрасту вспоминается евангельская максима: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос; все же вы — братья».
Евангельская свобода от спорного морализирования в составе книги согласуется со стихией смиренномудрия. Оно, в свою очередь, побуждает нас вопреки грозным витиям ставить милосердие выше справедливости. Именно к милосердию взывает митрополит Илларион — древнерусский автор, написавший «Слово о законе и благодати».
Но неужели поэзией не может управлять и несгибаемый закон, который Пастернак соотнёс с ужасным существом, дьяволом недетской дисциплины? Конечно, поэзия может быть неисчерпаемо разнообразной, однако Борис Кутенков говорит о том, как в современной русской поэзии живёт зов будущего. Вслушиваясь в него, мы со временем, как знать, почувствуем звучание русской классики XXI века.
Василий Геронимус
Пушкин за компьютером
Любое истинное открытие, к какой бы области оно ни принадлежало, нередко ставит под сомнение или и вовсе аннулирует общие места.
В области литературы таким опровержимым общим местом является утверждение, что поэт работает со словом. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не совсем так и слова не существует вне контекста. Внеязыковой пласт поэзии чрезвычайно разнообразен. Так, классическую завершённость, прозрачную стройность пушкинского «Онегина» контрастно оттеняют авторские комментарии к роману. Их составляют житейские и литературные анекдоты, меткие замечания автора на полях своего произведения и проч. и проч. Пушкин работает не столько со словом как таковым, сколько с границей, которая пролегает между житейской весёлостью литературных сплетен и классической завершённостью «Онегина» как художественного целого.
Не случайно сегодня едва ли не ещё одним — очередным — общим местом стало представление о том, что авторским комментарием к роману Пушкин предвосхитил нынешний интернет, который буквально кишит литературными сплетнями, замечаниями по поводу недавно вышедших книг et cetera.
В современном (а значит, вполне пушкинском) ключе построена и книга Бориса Кутенкова «25 писем о русской поэзии». Едва ли оные письма могут быть резко противопоставлены развёрнутым комментариям — речевому жанру, к которому нас всех располагает современный компьютер (а не только Пушкин).
Достаточно упомянуть, что и Кутенков ориентирован не на общие места и высокопарные «измы», а на колоритные частности. Одна из них присутствует в стихотворении Сергея Гандлевского «На смерть И.Б.»:
Друг Сопровский оживает, подбивает выпивать.
Мы «андроповки» берём…
В данном случае окололитературный быт, который существует за кулисами поэзии, позволяет автору преодолеть штамп, избежать общих мест. В то же время без них литературный быт принял бы самодовлеющий характер. Борис Кутенков проникновенно замечает: «Не побоюсь даже сказать, что такому виду лирики необходима определённая степень попсовости, с которой как раз и совмещаются литературоцентричные координаты, дабы не оставить стихотворение всецелой попсой».
Доля пастозности в стихах Гандлевского обусловлена его принадлежностью к поэтической группе «Московское время», возникшей в эпоху 70-х и нацеленной на историческую конкретику. Не единственной, но, несомненно, значимой составляющей книги Кутенкова являются его комментарии к стихам, в которых массовая стихия парадоксально соседствует с сердечно-сокровенными нотами. Интимно-психологическими, но оттого не менее узнаваемыми на страницах рецензируемой книги являются стихи Бориса Рыжего.
Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, от чего умру.
Осмелимся утверждать: там, где можно встретить цыганку, ожидается обстановка не названного, но подразумеваемого вокзала хотя бы уже потому, что цыгане — неприкаянный, кочующий народ. Конечно, в текст необязательно привносить железнодорожные реалии, однако и без них цыганка ожидается в одном из посещаемых общественных мест, будь то хотя бы и базар или любое другое место множественного скопления людей.
И вот эта массовая стихия, извечная спутница бездомного народа, в стихах Рыжего несколько парадоксально сочетается с интимно-сокровенным вопросом: какая судьба ждёт поэта? (Гадание вообще тайное, а не массовое занятие.)
Рыжий пишет от лица цыганки:
Станет сын чужим и чужой жена, отвернутся друзья-враги.
Мотивация трагического одиночества, которое неминуемо ждёт поэта, может быть восстановлена не из текста, а из контекста: как существо, равновеликое вселенной, поэт фатально исторгнут из уютного домашнего круга и даже из среды почитателей.
Борис Кутенков усматривает в участи поэта источник своего рода намеренной ломки слов; в созвучии «чужой жена» ему видится мужской род — свидетельство отчуждения поэта от своих домашних.
Контрастная соотносительность личной трагедии поэта и её подчёркнуто социального (едва ли не массового!) фона прямо или косвенно связана с принадлежностью Бориса Рыжего к уральской поэтической школе. Её приверженцы (не только Борис Рыжий, но и Олег Дозморов) склонны к аристократически-изысканной литературной игре с массовым сознанием. Так, в стихотворении Дозморова, которое Борис Кутенков включил в книгу, индивид-интеллигент контрастно предстаёт на фоне своеобразной поэтической массовки:
В Москве, передают, забиты рестораны…
Если текст содержит нейтральное сообщение, то контекст не является нейтральным хотя бы уже потому, что на сторонне-житейском примере сообщается о положении дел в стране и её древней столице. Более того, пойти в ресторан — это социальный жест, отнюдь не сводящийся к простой физиологической интенции — пойти поесть.
В стихотворении Олега Дозморова значимо то, что не сказано или сказано между строк. Мы вновь убеждаемся: поэт работает с «немым» контекстом едва ли не в большей степени, чем со словом.
Борис Кутенков замечает: «Ни одно слово не произнесено впрямую (вполне в духе времени, но и в духе поэзии тоже)».
Стихи Дозморова, при всей их злободневности, не являются общественно воспитательными, поскольку в них присутствует достоевщина и сумасшедшинка.
Ещё более радикально некрасовские ноты сочетаются с достоевщиной в стихах Дмитрия Гаричева. Поэт обращается к приезжим, к чужакам, как он их понимает:
убирайтесь назад, подмосковье для ленинабадских.
Социальный пафос у Гаричева сочетается едва ли не с достоевской истерикой, с демонстративно скандальным жестом, по поводу чего Борис Кутенков замечает: «и здорово, что концовка именно такая: резкая, несправедливая, задиристо-подростковая. Гуманистическая. Противоречащая бытовой логике. Нарушающая — да к чёрту её — эту самую логику; конечно, в пользу поэзии».
И всё же возникает один вопрос: кому присущи подростковые качества, автору или герою произведения? Если перед нами не слова автора в собственном смысле, остаётся признать, что автор (находящийся «за кадром») ироничнее и шире своего героя. Впрочем, широта поэтической души внутренне оправдывает тот самый эстетически обаятельный перехлёст, о котором с восхищением пишет Борис Кутенков.
В стихах, которые Кутенков опубликовал в своих «Письмах», прослеживается единый умственный зигзаг. Автор, бывало, заведёт разговор на социальную тему, а закончит упоминанием о тайнах счастия и гроба (Рыжий, Гандлевский, Гаричев и др.). Однако в некоторых стихах, собранных Кутенковым, наблюдается и нечто резко противоположное: иррациональное начало, сопряжённое с силами смерти, обретает житейски удобопонятную форму. Так, выказывая необъяснимое влечение к боли, Лена Элтанг пишет:
я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу…
Напрашивается параллель из Достоевского. Жестокий классик некогда сказал: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. …Человек не родится для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием».
Книга Бориса Кутенкова не является просто антологией русского стиха, прокомментированной автором. Раскрытая перед читателем книга Кутенкова содержит прямой или опосредованный ответ на вопрос о том, на каких перепутьях стоит русская поэзия сегодня и какие дороги перед ней открыты. Отдалённо вторя творцу «Онегина», наш современник устремлён к трогательным частностям в поэзии. (В эстетике минимализма выдержана и вся книга.)
Её автор подчас явно, подчас иносказательно свидетельствует о том, что громогласный бас Маяковского сегодня востребован менее, нежели сердечный шёпот Ахматовой. Наблюдения и тезисы Бориса Кутенкова согласуются и с нынешней литературной ситуацией: поэзия перешла из людных стадионов в уютные библиотеки и стала уделом меньшинства, что, однако, не отменяет гениальности Маяковского. Просто сегодня иной век русской поэзии, эпоха гигантизма миновала.
Случайно ли то, что в книгу Бориса Кутенкова включена особая глава об Ахматовой, чья поэзия намеренно тиха. «Ахматовской звать не будут / ни улицу, ни строфу», — напророчила о себе Ахматова, добровольно отрекаясь от славы.
Новая волна русской поэзии, которая, возможно, явится из ахматовских глубин, позволяет нам перефразировать известные слова Евтушенко: «Поэт в России — больше чем поэт». Это значит, что поэт при необходимости берёт на себя глобальную общественную роль и едва ли не пророческую миссию. Однако сегодня мы могли бы сказать, опровергая Евтушенко: «Поэт в России — меньше, чем поэт». Это значит, что поэт сегодня оберегает свободу частного бытия и сам не встаёт на котурны. Он позиционирует себя не в качестве гиганта, а в качестве мягкотелого интеллигента (разумеется, способного испытывать боль и знающего цену страданию человеческому).
Случайно ли то, что в книге Бориса Кутенкова опубликовано стихотворение Ганны Шевченко «В том же платке…», где с долей скепсиса описана эпически суровая личность?
я, говорит, ваш учитель, а вы не слушаете меня…
По контрасту вспоминается евангельская максима: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос; все же вы — братья».
Евангельская свобода от спорного морализирования в составе книги согласуется со стихией смиренномудрия. Оно, в свою очередь, побуждает нас вопреки грозным витиям ставить милосердие выше справедливости. Именно к милосердию взывает митрополит Илларион — древнерусский автор, написавший «Слово о законе и благодати».
Но неужели поэзией не может управлять и несгибаемый закон, который Пастернак соотнёс с ужасным существом, дьяволом недетской дисциплины? Конечно, поэзия может быть неисчерпаемо разнообразной, однако Борис Кутенков говорит о том, как в современной русской поэзии живёт зов будущего. Вслушиваясь в него, мы со временем, как знать, почувствуем звучание русской классики XXI века.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru