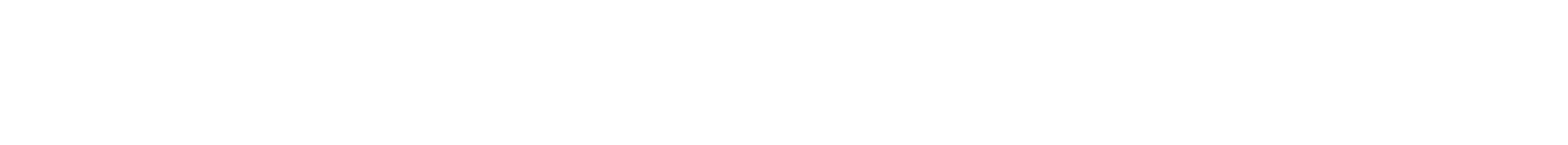Впервые опубликовано в журнале Prosodia.
Сборник «Триптих», вышедший в 2025 году в издательстве «Синяя гора», объединяет трёх очень разных, работающих в разных направлениях, в разной тематике поэтов, которых отличает свой голос, своя техника, свой стиль, — это Елена Севрюгина, Андрей Фамицкий, Клементина Ширшова. Части сборника не связаны ни общей темой, ни общей концепцией, как того требует триптих. Тем не менее «Триптих» сложился.
Чего обычно ждёшь, открывая сборник стихов разных поэтов? Знакомства с включёнными произведениями и возможности проанализировать поэтику каждого автора. Чего не ждёшь от сборника разных поэтов, так это то, что он вдруг обнаружит полифоническое звучание голосов, представленных различными подборками. Здесь нужно сделать небольшое уточнение, касающееся термина «полифония», который, как известно, введён в литературоведение Бахтиным и с тех пор понимается в его интерпретации, то есть как «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [Бахтин 1972: 7].
Дело в том, что полифония по определению требует обратного — голоса должны быть скоординированы. «Неслиянность» в музыкальных терминах это диссонанс, т. е. «звучание тонов, „не сливающихся“ друг с другом» [Холопов 1988: 13]. «Не сливающихся» не в том смысле, что они не соединяются вместе (диссонанс выявляется через соединение звуков), а в том, что они не согласуются в этом звучании. То есть полифония, которую описывает Бахтин — диссонантная. В строгом смысле это не полифония, т. к. отсутствует параметр согласованности, являющийся необходимым условием полифонии. «В музыкальной пьесе полифонического склада голоса равноправны в композиционно-техническом (одинаковые для всех голосов приёмы мотивно-мелодической разработки) и логическом (равноправные носители „музыкальной мысли“) отношениях» [Рахматов 2021: 436]. Однако, «при всей функциональной (музыкально-смысловой, музыкально-логической) независимости отдельных голосов они всегда согласованы по вертикали. В полифонической пьесе слух выделяет консонансы и диссонансы, аккорды, а их связи, которые проявляются в развёртывании музыки во времени, подчиняются логике того или иного лада. Любая полифоническая пьеса обладает признаком целостности звуковысотной структуры, музыкальной гармонии» [Рахматов 2021: 436, 437]. Поэтому «вне вертикального контроля над движением линий говорить о полифонии некорректно» [Южак 2006: 16]. «Достоевский же, о котором пишет Бахтин, представляет мир отделённых друг от друга голосов, звучание которых скорее сродни оркестру, настраивающему инструменты в оркестровой яме перед началом концерта. Это типичная какофония, разброд умствований, в котором гармония и контрапункт начисто отсутствуют» [Зубарева 2006: 100]. Наиболее точно эта какофоничность Петербурга описана Свидригайловым: «Да вот ещё: я убеждён, что в Петербурге много народу, ходят, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших» [Достоевский1989: 357].
Полифоническое повествование в «Триптихе» обнаруживается в пределах музыкального определения полифонии по типу двух её видов — подголосочной и контрастной. Подголосочная полифония проявляется в вариантном многообразии основной темы в динамике разветвления и слияния подголосков.
Поскольку сборник открывается подборкой Елены Севрюгиной, логично будет обозначить главную тему как заявленную в этой подборке. Это тема тьмы в её разнообразных проявлениях, проходящая через все основные стихи подборки, включая и «человека внутри» (строчка из этих стихов вынесена в название подборки), и «стиховолка», и др.
чёрные реки тоскуют по греку
да упокойся глядящий во тьму
жизнь — это реквием по человеку
колос и колокол по человеку
и бесконечное слово ему
(«чёрные реки тоскуют по греку»)
Тема реквиема по человеку охватывает у Севрюгиной широкий пространственно-временной пласт, включающий личный и историко-литературный опыт, в котором высверкивают судьбы писателей и их героев как сродственные лирической героине. Всё это поднимает разговор на уровень общих размышлений о культуре, истории и литературы, а также о сакральном месте писателя. Историческое плотно переплетается здесь с личными переживаниями, что сплавляет уровни в единый континуум, где личное коренится в историческом, а история переживается на личном уровне.
и всё как прежде всё как встарь —
по блоковскому завещанью
рябины жертвенный алтарь
комод с забытыми вещами
под окнами тревожный стук
дождя начавшегося с ночи
который вечности короче
и непрерывный тремор рук
сады отцветшие пусты
скрипят бессонные качели
и ты итыитыиты
от каждой тьмы из каждой щели
с воды с травы с земли с небес
с лесной тропы с куста ракиты
воспоминанием забытым
внезапной мыслью о тебе
на глубине моей реки
где всё болезненно и звонко
пылятся счастья островки
как непроявленные плёнки
и можно мыслью сном судьбой
пока закат горяч и матов
в деревню к тётке в глушь в саратов
когда к тебе когда с тобой
Тема судьбы писателя полифонично перекликается с темой «реквиема по человеку» в подборке Андрея Фамицкого.
в гробу, обёрнутом рогожей,
мы не сокровище везли
в день сумеречный, непогожий,
по мёрзлым пустошам земли.
шуршала весело солома,
но сердце с нею не в ладу,
и всё, от заступа до лома,
долбило лежбище во льду.
когда-то нежился в овечьем
пуху с красавицей женой,
а вот — когда укрыться нечем —
ты укрываешься землёй.
стенанием не осквернили,
молчанием не вознесли.
под толщей снега и земли
мы Пушкина похоронили.
«Реквием по человеку» в этом вариантом звучании становится уже прямым реквиемом по культуре, как бы развивая и доводя до большей определённости то, что выводилось из контекста стихов Севрюгиной. При этом никакого нажима, всё по-чеховски просто, обыденно, прозаично. И вместе с тем весомо. В сочетании с очень эмоциональным развитием этой темы у Севрюгиной эффект весомости только усиливается.
К этому подмешивается третий голос — лирической героини Клементины Ширшовой, где тема «реквиема» обретает апокалиптическое звучание, но не в сложном интуитивно-эмоциональном регистре Севрюгиной, и не в нарочито прозаичной мелодике Фамицкого. Голос Ширшовой словно балансирует между внутренним накалом одного и простотой высказывания другого, развивая тему «реквиема» в поле отношений Творца и творения. При этом сохраняются и литературный, и личный, и исторический срезы, но пропущенные сквозь призму апокалипсического видения.
поезд прибывает и прибывает
до тех пор, пока его не становится слишком много
забивает уши железным грохотом
а рот привкусом креозота
становится трудно дышать
от переполняющего поезда
переворачивающего всё внутри
на полном ходу, заполненного людьми
его трясёт и шатает
как и тебя, как и тебя
дребезжащая ложка в стакане
чай, заливающий всё кругом
поля, слева и справа
город с красивым названием Златоуст
рязанскую гостиницу «Центральная»
поляну возле музея Корнея Чуковского
ландшафт постоянно меняется
вокруг вода бесконечная
вот-вот затечёт в вагон
и затопит его
а помнишь
ничего ты не помнишь
жизнь это перемены
смерть статична, будто бы камень
Осипа Эмильевича
мы не остановимся
не беспокойся
здесь у нас пространство и время
голос до боли знакомый
спрашивающий «где радио»
переполняет
«да вон там, подвешено»
повторяю
как в петле, как в петле
говорил Цветаевой Пастернак
а ты не мешай мне смотреть на Волгу
дурак
(«Волга»)
Смесь возвышенной лексики и вульгаризмов усиливают блоковское поле «Двенадцати», где сакральное и профанное сосуществуют как видимое и невидимое. Видимое преломляет в себе всё — от человеческих страстей до язычества, управляющего этими страстями. Мотив язычества, появляющийся у Севрюгиной (камлание «языческих жрецов». «Стиховолк»), разрешается у Ширшовой в трезвучие жреца, храма и смертного греха.
в этой безродной тьме забываешь храм,
ближние лица только увидеть нам ли
видим поблёкший поочерёдный сон —
лепим чело из глины, кулак из стали
сколько веков и дней мы боролись, но
всяк под конец отчаялись и устали
я вопию к тебе через смертный грех,
выдранный с корнем в ноги упавший коготь
хочешь, возьми на ниточку для потех,
хочешь как единицу меня запомни
(«Жрец»)
Помимо вариативной в сборнике наблюдается и контрастная полифония, представленная в музыке сочетанием индивидуальных, самостоятельных мелодий, которые могут быть иногда и неравноправными, но обогащающими представление о целом.
Примером разнотемной полифонии в сборнике может служить тема холокоста, возникающая в подборке Фамицкого.
моя прабабушка-еврейка,
пройдя концлагерь и тюрьму,
любила симпатягу Швейка
и жизнь сверяла по нему.
она дымила папироской
и говорила: «ерунда»,
когда земля казалась плоской
и выпуклой была беда.
так рьяно с кухонной лежанки
пред смертью порывалась встать,
но все потуги были жалки,
и есть обрыдло ей, и спать.
и опустевшая аптечка,
и неподвижная мольба,
и не концлагерная печка,
но крематорская труба…
Мастерки исполненная, без традиционного надрыва, с присущей этому автору иронией и чувством меры, тема концлагеря привносит печальную полноту в историко-литературный и биографический контекст главной темы.
Интересно, что различные ракурсы «тьмы», постепенно раскрывающиеся в процессе чтения подборок, изначально обозначены как «жизнь, и её вариант» в стихах Севрюгиной, что поддерживает ощущение «главной темы» и полифонической согласованности «Триптиха».
шесть соток фамильного сада
луна освещает, но мне
немного, по совести, надо,
и этого хватит вполне.
сидеть на ступенях веранды,
смотреть, как сгущаются: тьма,
и жизнь, и её варианты,
и прочие игры ума.
(Андрей Фамицкий)
Главная тема в сборнике разрешается в устойчивое трезвучие противостояния тьме на трёх уровнях — творческом (Севрюгина), историческом (Фамицкий) и библейском (Ширшова). Все уровни поданы сквозь призму современности и поэтому звучат не отстранённо, не абстрактно. Это живое полифоническое раздумье о насущном, о том, как обрести равновесие в мире с нарастающей турбулентностью, как сохранить свет…
пока мой город изнывает от
политики, жары, литературы,
пока ещё не кончился завод
у сердца и другой аппаратуры,
пока мы говорим друг другу «ты»
и в транспорте отдавливаем ноги,
пока у дня хватает долготы
и времени — у нас — на диалоги,
пока добры, безумны, влюблены
и быть свободным позволяет смета,
попробуем ещё и без войны —
а вдруг у нас получится и это.
(Андрей Фамицкий)
Несомненно, полифонизм «Триптиха» удался благодаря кропотливой работе авторов и составителей, продемонстрировавших редкую чуткость соавторства.
Литература
Зубарева В. К. «На встречном течении». Пушкин сквозь призму Веселовского. М: ЯСК, 2024.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972.
Рахматов Н. Э. Гетерофонная вариация в музыке // Scientific Progress.Vol. 2. Issue 4. 2021. С. 434–439.
Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. М. : Музыка, 1988.
Южак К. Полифония и контрапункт. СПб, 2006.
Вера Зубарева
Полифония триптиха: три ракурса противостояния
Сборник «Триптих», вышедший в 2025 году в издательстве «Синяя гора», объединяет трёх очень разных, работающих в разных направлениях, в разной тематике поэтов, которых отличает свой голос, своя техника, свой стиль, — это Елена Севрюгина, Андрей Фамицкий, Клементина Ширшова. Части сборника не связаны ни общей темой, ни общей концепцией, как того требует триптих. Тем не менее «Триптих» сложился.
Чего обычно ждёшь, открывая сборник стихов разных поэтов? Знакомства с включёнными произведениями и возможности проанализировать поэтику каждого автора. Чего не ждёшь от сборника разных поэтов, так это то, что он вдруг обнаружит полифоническое звучание голосов, представленных различными подборками. Здесь нужно сделать небольшое уточнение, касающееся термина «полифония», который, как известно, введён в литературоведение Бахтиным и с тех пор понимается в его интерпретации, то есть как «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [Бахтин 1972: 7].
Дело в том, что полифония по определению требует обратного — голоса должны быть скоординированы. «Неслиянность» в музыкальных терминах это диссонанс, т. е. «звучание тонов, „не сливающихся“ друг с другом» [Холопов 1988: 13]. «Не сливающихся» не в том смысле, что они не соединяются вместе (диссонанс выявляется через соединение звуков), а в том, что они не согласуются в этом звучании. То есть полифония, которую описывает Бахтин — диссонантная. В строгом смысле это не полифония, т. к. отсутствует параметр согласованности, являющийся необходимым условием полифонии. «В музыкальной пьесе полифонического склада голоса равноправны в композиционно-техническом (одинаковые для всех голосов приёмы мотивно-мелодической разработки) и логическом (равноправные носители „музыкальной мысли“) отношениях» [Рахматов 2021: 436]. Однако, «при всей функциональной (музыкально-смысловой, музыкально-логической) независимости отдельных голосов они всегда согласованы по вертикали. В полифонической пьесе слух выделяет консонансы и диссонансы, аккорды, а их связи, которые проявляются в развёртывании музыки во времени, подчиняются логике того или иного лада. Любая полифоническая пьеса обладает признаком целостности звуковысотной структуры, музыкальной гармонии» [Рахматов 2021: 436, 437]. Поэтому «вне вертикального контроля над движением линий говорить о полифонии некорректно» [Южак 2006: 16]. «Достоевский же, о котором пишет Бахтин, представляет мир отделённых друг от друга голосов, звучание которых скорее сродни оркестру, настраивающему инструменты в оркестровой яме перед началом концерта. Это типичная какофония, разброд умствований, в котором гармония и контрапункт начисто отсутствуют» [Зубарева 2006: 100]. Наиболее точно эта какофоничность Петербурга описана Свидригайловым: «Да вот ещё: я убеждён, что в Петербурге много народу, ходят, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших» [Достоевский1989: 357].
Полифоническое повествование в «Триптихе» обнаруживается в пределах музыкального определения полифонии по типу двух её видов — подголосочной и контрастной. Подголосочная полифония проявляется в вариантном многообразии основной темы в динамике разветвления и слияния подголосков.
Поскольку сборник открывается подборкой Елены Севрюгиной, логично будет обозначить главную тему как заявленную в этой подборке. Это тема тьмы в её разнообразных проявлениях, проходящая через все основные стихи подборки, включая и «человека внутри» (строчка из этих стихов вынесена в название подборки), и «стиховолка», и др.
чёрные реки тоскуют по греку
да упокойся глядящий во тьму
жизнь — это реквием по человеку
колос и колокол по человеку
и бесконечное слово ему
(«чёрные реки тоскуют по греку»)
Тема реквиема по человеку охватывает у Севрюгиной широкий пространственно-временной пласт, включающий личный и историко-литературный опыт, в котором высверкивают судьбы писателей и их героев как сродственные лирической героине. Всё это поднимает разговор на уровень общих размышлений о культуре, истории и литературы, а также о сакральном месте писателя. Историческое плотно переплетается здесь с личными переживаниями, что сплавляет уровни в единый континуум, где личное коренится в историческом, а история переживается на личном уровне.
и всё как прежде всё как встарь —
по блоковскому завещанью
рябины жертвенный алтарь
комод с забытыми вещами
под окнами тревожный стук
дождя начавшегося с ночи
который вечности короче
и непрерывный тремор рук
сады отцветшие пусты
скрипят бессонные качели
и ты итыитыиты
от каждой тьмы из каждой щели
с воды с травы с земли с небес
с лесной тропы с куста ракиты
воспоминанием забытым
внезапной мыслью о тебе
на глубине моей реки
где всё болезненно и звонко
пылятся счастья островки
как непроявленные плёнки
и можно мыслью сном судьбой
пока закат горяч и матов
в деревню к тётке в глушь в саратов
когда к тебе когда с тобой
Тема судьбы писателя полифонично перекликается с темой «реквиема по человеку» в подборке Андрея Фамицкого.
в гробу, обёрнутом рогожей,
мы не сокровище везли
в день сумеречный, непогожий,
по мёрзлым пустошам земли.
шуршала весело солома,
но сердце с нею не в ладу,
и всё, от заступа до лома,
долбило лежбище во льду.
когда-то нежился в овечьем
пуху с красавицей женой,
а вот — когда укрыться нечем —
ты укрываешься землёй.
стенанием не осквернили,
молчанием не вознесли.
под толщей снега и земли
мы Пушкина похоронили.
«Реквием по человеку» в этом вариантом звучании становится уже прямым реквиемом по культуре, как бы развивая и доводя до большей определённости то, что выводилось из контекста стихов Севрюгиной. При этом никакого нажима, всё по-чеховски просто, обыденно, прозаично. И вместе с тем весомо. В сочетании с очень эмоциональным развитием этой темы у Севрюгиной эффект весомости только усиливается.
К этому подмешивается третий голос — лирической героини Клементины Ширшовой, где тема «реквиема» обретает апокалиптическое звучание, но не в сложном интуитивно-эмоциональном регистре Севрюгиной, и не в нарочито прозаичной мелодике Фамицкого. Голос Ширшовой словно балансирует между внутренним накалом одного и простотой высказывания другого, развивая тему «реквиема» в поле отношений Творца и творения. При этом сохраняются и литературный, и личный, и исторический срезы, но пропущенные сквозь призму апокалипсического видения.
поезд прибывает и прибывает
до тех пор, пока его не становится слишком много
забивает уши железным грохотом
а рот привкусом креозота
становится трудно дышать
от переполняющего поезда
переворачивающего всё внутри
на полном ходу, заполненного людьми
его трясёт и шатает
как и тебя, как и тебя
дребезжащая ложка в стакане
чай, заливающий всё кругом
поля, слева и справа
город с красивым названием Златоуст
рязанскую гостиницу «Центральная»
поляну возле музея Корнея Чуковского
ландшафт постоянно меняется
вокруг вода бесконечная
вот-вот затечёт в вагон
и затопит его
а помнишь
ничего ты не помнишь
жизнь это перемены
смерть статична, будто бы камень
Осипа Эмильевича
мы не остановимся
не беспокойся
здесь у нас пространство и время
голос до боли знакомый
спрашивающий «где радио»
переполняет
«да вон там, подвешено»
повторяю
как в петле, как в петле
говорил Цветаевой Пастернак
а ты не мешай мне смотреть на Волгу
дурак
(«Волга»)
Смесь возвышенной лексики и вульгаризмов усиливают блоковское поле «Двенадцати», где сакральное и профанное сосуществуют как видимое и невидимое. Видимое преломляет в себе всё — от человеческих страстей до язычества, управляющего этими страстями. Мотив язычества, появляющийся у Севрюгиной (камлание «языческих жрецов». «Стиховолк»), разрешается у Ширшовой в трезвучие жреца, храма и смертного греха.
в этой безродной тьме забываешь храм,
ближние лица только увидеть нам ли
видим поблёкший поочерёдный сон —
лепим чело из глины, кулак из стали
сколько веков и дней мы боролись, но
всяк под конец отчаялись и устали
я вопию к тебе через смертный грех,
выдранный с корнем в ноги упавший коготь
хочешь, возьми на ниточку для потех,
хочешь как единицу меня запомни
(«Жрец»)
Помимо вариативной в сборнике наблюдается и контрастная полифония, представленная в музыке сочетанием индивидуальных, самостоятельных мелодий, которые могут быть иногда и неравноправными, но обогащающими представление о целом.
Примером разнотемной полифонии в сборнике может служить тема холокоста, возникающая в подборке Фамицкого.
моя прабабушка-еврейка,
пройдя концлагерь и тюрьму,
любила симпатягу Швейка
и жизнь сверяла по нему.
она дымила папироской
и говорила: «ерунда»,
когда земля казалась плоской
и выпуклой была беда.
так рьяно с кухонной лежанки
пред смертью порывалась встать,
но все потуги были жалки,
и есть обрыдло ей, и спать.
и опустевшая аптечка,
и неподвижная мольба,
и не концлагерная печка,
но крематорская труба…
Мастерки исполненная, без традиционного надрыва, с присущей этому автору иронией и чувством меры, тема концлагеря привносит печальную полноту в историко-литературный и биографический контекст главной темы.
Интересно, что различные ракурсы «тьмы», постепенно раскрывающиеся в процессе чтения подборок, изначально обозначены как «жизнь, и её вариант» в стихах Севрюгиной, что поддерживает ощущение «главной темы» и полифонической согласованности «Триптиха».
шесть соток фамильного сада
луна освещает, но мне
немного, по совести, надо,
и этого хватит вполне.
сидеть на ступенях веранды,
смотреть, как сгущаются: тьма,
и жизнь, и её варианты,
и прочие игры ума.
(Андрей Фамицкий)
Главная тема в сборнике разрешается в устойчивое трезвучие противостояния тьме на трёх уровнях — творческом (Севрюгина), историческом (Фамицкий) и библейском (Ширшова). Все уровни поданы сквозь призму современности и поэтому звучат не отстранённо, не абстрактно. Это живое полифоническое раздумье о насущном, о том, как обрести равновесие в мире с нарастающей турбулентностью, как сохранить свет…
пока мой город изнывает от
политики, жары, литературы,
пока ещё не кончился завод
у сердца и другой аппаратуры,
пока мы говорим друг другу «ты»
и в транспорте отдавливаем ноги,
пока у дня хватает долготы
и времени — у нас — на диалоги,
пока добры, безумны, влюблены
и быть свободным позволяет смета,
попробуем ещё и без войны —
а вдруг у нас получится и это.
(Андрей Фамицкий)
Несомненно, полифонизм «Триптиха» удался благодаря кропотливой работе авторов и составителей, продемонстрировавших редкую чуткость соавторства.
Литература
Зубарева В. К. «На встречном течении». Пушкин сквозь призму Веселовского. М: ЯСК, 2024.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972.
Рахматов Н. Э. Гетерофонная вариация в музыке // Scientific Progress.Vol. 2. Issue 4. 2021. С. 434–439.
Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. М. : Музыка, 1988.
Южак К. Полифония и контрапункт. СПб, 2006.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru