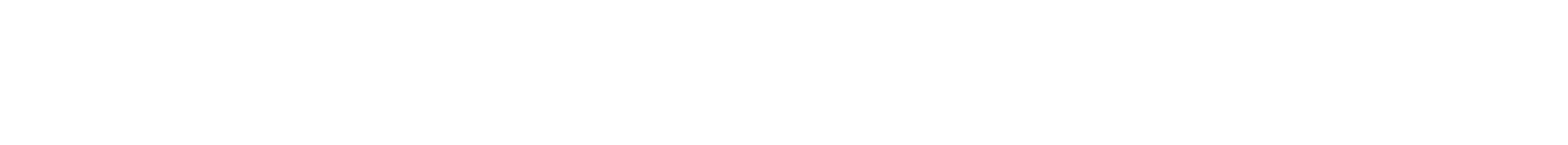Впервые опубликовано на сайте «Горький».
С одной стороны, посмотришь — здесь неловкость на неловкости. Неправильные ударения: «гло́жа», «взапуски́». Стилистические несуразицы («вилку взяв в щепоть»: щепоть — это сложенные концами вместе три пальца, вилку так не берут; «последний картофель» — в смысле «картофелина»; поезд, «бегущий по сырым опавшим листьям» — идея понятна, но деревья обычно находятся от рельсов на таком расстоянии, что листья на полотне не скапливаются). Фразы, через которые трудно продраться: «Руины юности, руины школы / Так много значили тогда, должно быть, / Для замолчавшей в этот час её», «Выталкивает стёкла окон газ».
А с другой стороны, запоминается книга не этим, а последовательно выдержанной атмосферой макабра, причём макабра сюжетного. Давно не читанным русским бодлерианством, которому в России отдали дань и символисты, и акмеисты — неспроста Матросов часто выбирает форму сонета. В обращении к «шок-контенту» Матросов идёт вслед за Сологубом, Зенкевичем, Нарбутом.
Я не люблю беременных. Внутри
У них, заключены в кровавый кокон,
Осклизлые гниют нетопыри
Во мгле бурлящей без дверей и окон.
Их там повесил дозревать Харон
В пути обратном между берегами.
Как страшен плод, как жутко виснет он
Вверх согнутыми кое-как ногами!
И так далее: тараканы пьют грудное молоко жены на глазах у мастурбирующего мужа, во рту у человека вместо языка оказывается осклизлая сороконожка, женщина смотрит в водоворот стиральной машины и вспоминает недавно утонувшую дочь… Описано зримо, рифмы изобретательно въедливы, вывод если и подразумевается, то какой-то нутряной, на уровне ощущения. Во всём этом много подлинно невротического — хотя если хочешь создать хтонический ужас, не нужно напрямую его называть «хтоническим ужасом», как это происходит в стихотворении «Шелухи» (а начиная нагнетать зловещую атмосферу, стоит вовремя остановиться, а то будет уже не страшно).
Но в текстах, кажущихся более тусклыми, поэт проговаривается о вещах более тяжёлых — например, о снах и желании остаться в них навсегда. Если говорить просто, за лирическим «я» здесь ощутим страдающий автор, и это вызывает сочувствие. В свете этого по-другому прочитывается и стилистическая неловкость многих текстов — она как будто отвечает характеру говорящего, который бросил вызов собственным страхам. И если от каких-то текстов хочется только покачать головой (скажем, стихотворение, которое во всех подробностях живописует пытки, учинённые ребёнком над плюшевым мишкой) — то заглавная «Свалка манекенов», родившаяся из яркого и болезненного зрительного образа, производит, невзирая на длинноты, то гнетущее впечатление, ради которого стихи и писались:
Лишённые примет и черт особых, лица
Желают меж собой в одно созданье слиться.
Дождь капает на них, пустые лужи вспенив.
Лежит во тьме густой концлагерь манекенов.
К прохожему сквозь тьму протягивает руки
Чудовище: «Спаси, избавь меня от муки!»
Но только вздрогнет он и боком, неуклюже
Помчится, бедный, прочь, разбрызгивая лужи.
Есть тут и баллады с нетривиальной строфикой, и поэмы. Среди удач книги — два текста об Иване Тургеневе. В одном он охотится со Львом Толстым, в другом — появляется лишь на секунду в толпе, наблюдающей за казнью преступника; убитый вальдшнеп «рифмуется» с казнённым преступником. Вообще там, где появляются у Матросова животные, вместе с ними приходит какая-то дополнительная нота, поднимающая текст на новый уровень. Будь то страшилка об умершем коте или ремейк притчи о людях, ощупывающих слона.
Лев Оборин
С одной стороны, посмотришь — здесь неловкость на неловкости. Неправильные ударения: «гло́жа», «взапуски́». Стилистические несуразицы («вилку взяв в щепоть»: щепоть — это сложенные концами вместе три пальца, вилку так не берут; «последний картофель» — в смысле «картофелина»; поезд, «бегущий по сырым опавшим листьям» — идея понятна, но деревья обычно находятся от рельсов на таком расстоянии, что листья на полотне не скапливаются). Фразы, через которые трудно продраться: «Руины юности, руины школы / Так много значили тогда, должно быть, / Для замолчавшей в этот час её», «Выталкивает стёкла окон газ».
А с другой стороны, запоминается книга не этим, а последовательно выдержанной атмосферой макабра, причём макабра сюжетного. Давно не читанным русским бодлерианством, которому в России отдали дань и символисты, и акмеисты — неспроста Матросов часто выбирает форму сонета. В обращении к «шок-контенту» Матросов идёт вслед за Сологубом, Зенкевичем, Нарбутом.
Я не люблю беременных. Внутри
У них, заключены в кровавый кокон,
Осклизлые гниют нетопыри
Во мгле бурлящей без дверей и окон.
Их там повесил дозревать Харон
В пути обратном между берегами.
Как страшен плод, как жутко виснет он
Вверх согнутыми кое-как ногами!
И так далее: тараканы пьют грудное молоко жены на глазах у мастурбирующего мужа, во рту у человека вместо языка оказывается осклизлая сороконожка, женщина смотрит в водоворот стиральной машины и вспоминает недавно утонувшую дочь… Описано зримо, рифмы изобретательно въедливы, вывод если и подразумевается, то какой-то нутряной, на уровне ощущения. Во всём этом много подлинно невротического — хотя если хочешь создать хтонический ужас, не нужно напрямую его называть «хтоническим ужасом», как это происходит в стихотворении «Шелухи» (а начиная нагнетать зловещую атмосферу, стоит вовремя остановиться, а то будет уже не страшно).
Но в текстах, кажущихся более тусклыми, поэт проговаривается о вещах более тяжёлых — например, о снах и желании остаться в них навсегда. Если говорить просто, за лирическим «я» здесь ощутим страдающий автор, и это вызывает сочувствие. В свете этого по-другому прочитывается и стилистическая неловкость многих текстов — она как будто отвечает характеру говорящего, который бросил вызов собственным страхам. И если от каких-то текстов хочется только покачать головой (скажем, стихотворение, которое во всех подробностях живописует пытки, учинённые ребёнком над плюшевым мишкой) — то заглавная «Свалка манекенов», родившаяся из яркого и болезненного зрительного образа, производит, невзирая на длинноты, то гнетущее впечатление, ради которого стихи и писались:
Лишённые примет и черт особых, лица
Желают меж собой в одно созданье слиться.
Дождь капает на них, пустые лужи вспенив.
Лежит во тьме густой концлагерь манекенов.
К прохожему сквозь тьму протягивает руки
Чудовище: «Спаси, избавь меня от муки!»
Но только вздрогнет он и боком, неуклюже
Помчится, бедный, прочь, разбрызгивая лужи.
Есть тут и баллады с нетривиальной строфикой, и поэмы. Среди удач книги — два текста об Иване Тургеневе. В одном он охотится со Львом Толстым, в другом — появляется лишь на секунду в толпе, наблюдающей за казнью преступника; убитый вальдшнеп «рифмуется» с казнённым преступником. Вообще там, где появляются у Матросова животные, вместе с ними приходит какая-то дополнительная нота, поднимающая текст на новый уровень. Будь то страшилка об умершем коте или ремейк притчи о людях, ощупывающих слона.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru