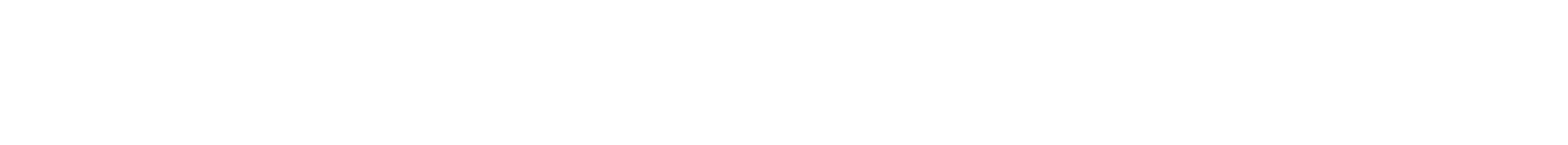Впервые опубликовано в независимом литературно-критическом журнале «Дегуста».
Книга эта, конечно, не для слабонервных. В беспощадном описании жутких сторон реальности Константин Матросов может дать фору и Ходасевичу с его «ножом под лиловатым, ещё девическим соском», и нашей современнице Лиде Юсуповой, а из кинематографа вспоминаются «чернушные» картины Андрея Звягинцева — прежде всего «Нелюбовь» и «Левиафан» — и Алексея Балабанова, в первую очередь «Груз 200». В одном из стихотворений появляется выпотрошенный и запуганный мишка из стихотворения Агнии Барто, над которым происходит жестокая расправа; в другом — под шиной хрустит «труп лисы», а что творится внутри стиральной машины — лучше и не рассказывать. Было бы неверным, однако, сводить книгу только к хоррору и сознательно форсируемому эффекту — но эти два спутника здесь не ходят один без другого. Матросов прекрасно осознаёт, что делает с читателем и его восприятием, обычно не нацеленным на смакование «неприятных» подробностей:
Всё на помойке. Вот лежит старик.
Течёт по трубке вязкая глюкоза.
Читатель ждёт, конечно, рифмы «роза», —
Возьми и слушай их предсмертный крик
И хрип окоченевших от наркоза.
Рифмы «роза» не ждём — ещё и потому что эстетика в поэзии не новая: удивить читателя, кроме совсем уж наивного, сложно, он видал виды. Кроме уже упомянутых имён, тут в равной мере можно повести вектор размышлений хоть к Слуцкому с его «Кёльнской ямой», хоть — из современников — к Елене Фанайловой, а из прозаиков не обойтись без параллелей с Романом Сенчиным. И всё же дело не в стремлении продолжить традицию «русской хтони» или произвести эффект. Одно из стихотворений, о найденной «овце с окоченевшими ногами», даёт ключ к этой двери: Матросов — поэт, принимающий на себя ужас мира, его вибрации, остро чувствующий соположение беспечной тишины — и убийства, совершаемого в ней. Поэтому из всех упомянутых прежде всего узнаётся Ходасевич с его «планетарным» восприятием реальности — именно этого поэта (апеллируя к воспоминаниям Нины Берберовой1) можно назвать предшественником нашего автора — не только в контексте грубой прозаизации, возгонки стиха «сквозь прозу», но и в смысле особого мироощущения, где за обыденностью — ощущаемый всей кожей апокалипсис. Вот, казалось бы, что за дело частному человеку до судьбы той же овцы — однако в финале стихотворения появляется не только она, но и окружающий её смерть незримый жуткий морок, принимаемый обывателем за спокойствие:
И не сама она была страшна,
И не тяжёлый морок снегопада,
А наступившая вдруг тишина,
Которой всё в округе было радо.
Стихи эти побуждают читать себя двойным зрением. С одной стороны, конечно, много штампов и языковых неловкостей: некоторые из них уже были отмечены Львом Обориным в рецензии на «Горьком» (правда, с тем, что листья не падают на рельсы, не согласились, кажется, все, с кем обсуждал это2). Нарратив как бы перетягивает на себя одеяло и не всегда побуждает справляться с коварной ситуацией метра (в основном регулярного) и образа, втискиваемого в эти объятья, — оттого появляются деепричастие «вяжа», инверсии («как малую я родину любил!») и прочее, на чём невозможно не заострить внимание. Здесь не хватило не столько поэтической, сколько редакторской работы — человека, который бы отметил на полях книги или подборки неправильные ударения и странности вроде «душа тела обжившая» (обжившая тело? Или всё же не хватает запятой, обрамляющей причастный оборот, — но тогда возникает несоответствие единственного числа «души» и множественного «тела»). При этом именно неловкости и проходные речевые конструкции (для радикально настроенного критика их будет даже чрезмерно много: «как вкопанный», «скоропостижно скончался», «снег долетал тоскливо до земли») создают естественность интонации: без них этот язык, честный в каждом слове, утерял бы привкус детской непосредственности. Все отмеченные недостатки — продолжение достоинств: они как будто даже и не противоречат художественной речи, а порой и организуют её, действуют на «минус-приёме» абсолютного отсутствия литературности. Нечастая ситуация в современной поэзии, которая побуждает вспомнить о её «наивном» векторе — но с ним, думаю, у Матросова мало стилистических параллелей.
По-разному можно посмотреть и на ситуацию пресловутой «надежды» — а ведь в пренебрежении ею непременно упрекнут автора те, кто любит подходить к стихам с позиции этики, те, о ком можно сказать словами Державина: «Поэзия тебе любезна, / Приятна, сладостна, полезна, / Как летом вкусный лимонад». Наиболее слабыми получаются моменты, где Матросов пытается воссоздать эту надежду, как бы уравновешивая хтоническую картину: «Назавтра всё же вальдшнепа найдут / Лежащего среди густой осоки… / День будет ветром осени продут, / Но вместе с тем — и тёплым на припёке…». Исключение, пожалуй, «Визит», выдержанный в стилистике сослагательного наклонения, вновь напоминающий Ходасевича («Уж лучше бы — я еле смею / Подумать про себя о том — / Попасться бы тебе злодею / В пустынной роще, вечерком…»). Здесь эстетика сна ведёт к неоднозначности — герой остаётся во сне, видя исключительно в нём происходящий кошмар, оттого «счастье» в финале получается неподдельным. Но этот кошмар происходит и наяву — и такая неоднозначность, безусловно, «на руку» поэтическому тексту.
Я слышал ночью: кто-то дёрнул ручку
И долго шаркал у двери входной.
Проникнув в дом, он бы забрал получку
И ей не ограничился одной.
Он вскрыл бы мне опасной бритвой горло
И долго бы насиловал жену.
Он носит в сумке хлороформ и свёрла,
И фомку проржавевшую одну.
Он книги повалил бы с полок на пол,
Порвал семейный бы фотоальбом,
Следами крови все ковры заляпал
И всё перевернул бы кверху дном.
А может, это пьяный алкоголик,
Который перепутал свой подъезд.
Какой-то игровой забытый нолик,
Которому поставят скоро крест.
А может, прошлый житель по привычке,
В любви на новом месте невезуч,
Под мухой, смогший прочь откинуть спички,
Не смогший вставить в скважину свой ключ.
Он в дом вошёл бы сдуру, по ошибке,
И тоже полоснул по горлу мне…
А я бы спал, расплывшийся в улыбке,
И счастлив был, что остаюсь во сне.
Спектр «непоэтических» предметов в поэзии Матросова широк — отдельно хочется отметить эпизоды, где человек «пойман» в момент перехода границы, будь то момент самообнажения или разбуженность котом. Все эти истории автор с очаровательной беспардонностью укладывает в структуру нарратива; они работают на обаяние книги — и показывают безграничность возможностей разговора.
Безграничность — вплоть до откровенной физиологии. Физиологизм, уже отмеченный в критике о Матросове, здесь и невинно-телесного, и «палаческого» свойства. Но авторское наслаждение ужасами не всегда способствует эстетическому эффекту, а, условно говоря, порой только помогает срежиссировать очередного «Фредди Крюгера». И тут речь не об излишне нежном читателе или зрителе (хотя прекрасно помню, сколь травмирующее впечатление производил тот же «Крюгер» на меня шестилетнего), но о том, что порой не остаётся ничего, кроме тошнотворности. К тому же в какой-то момент, читая «Качели» с их невинным началом («Ни минуты не печалясь / (Мину грустную сострой), / Много лет назад качались / На качелях брат с сестрой»), уже понимаешь, что нагнетаемый хоррор перейдёт в предсказуемый ужас, а с ним и в эстетическую предсказуемость. И ожидания, увы, оправдываются.
Брат с сестрой стоят, неловки,
И свисают до земли
С перекладины верёвки,
Две верёвки, две петли.
Определённое разнообразие в эту сюжетику привносят стихи, где сюжет прерывается метафизической загадкой. Часто она выражена в форме риторического вопроса:
Я долго проводил в уме подсчёты,
И понял, что никто здесь ни при чём.
Но кто же, кто, поднявший руку, кто ты
Там — за моим плечом?
Подобная загадка в некоторых текстах разрешается повтором — так, болезненно произносимое вновь и вновь «Я что-то видел подо льдом…», отсылая к знаменитому тексту Роберта Фроста в переводе Григория Дашевского и его рефренному «И ехать долго: путь далёк…», превращается уже в самостоятельную сущность, возникает в ореоле навязчивого видения. Сюда же можно отнести и «шелухи» из соответствующе озаглавленного текста. Этот мотив назойливо повторяемого, галлюцинаторного прозрения иногда создаёт и крепкую звуковую основу, превращается в гипнотизирующий рефрен. Всё это нередко соседствует с внезапным ночным пробуждением: строки Гандлевского «Я жил и в собственной кровати / Садился вдруг во тьме ночной…» явно не прошли мимо автора и стали межтекстовым импульсом для собственных образов.
Ночью сядешь в кровати невесть почему,
Силуэты размыты и звуки тихи.
И сидишь, тыча пальцем куда-то во тьму,
Бормоча «шелухи, шелухи, шелухи».
В лучших же текстах автономная жизнь вещей отсылает скорее к обэриутству — и даже радикализирует его приёмы, если говорить именно о беспощадности отношений с миром. Некоторые стихотворения, как, например, «Пикник», наглядно опираются на «Столбцы» Заболоцкого, привнося что-то своё. Думаю, что это «своё» — то самое усиление жути в процессуальности трещащего по швам, когда-то благоразумно устроенного порядка:
На праздник в детстве всё ещё в порядке:
Просторно и уютно на Земле.
Пока ещё никто в стигийской мгле
Не вздумал поиграть со мною в прятки.
Шампанское плюётся на столе,
Трясясь в эпилептическом припадке.
Опасный вяз положен на лопатки.
Картошка запекается в золе.
И наплевать, что наша плоть — лишь клетки.
Мы молоды, красивы и сильны.
Антоновка стоит средь тишины,
Трепещут листья, как марионетки.
Паук почуял дрожь тугой струны,
Распространяющуюся по сетке.
Корова, гложа флегматично ветки,
Случайно отъедает пол-луны.
«Пикник» вообще кажется одним из сильнейших стихотворений в книге — подача вещи здесь на грани с волшебством. Именно оно воплощает то, к чему стремится сам поэтический мир Матросова, — сдержанный разговор через многозначную метафору, а не через «он пугает, а мне не страшно» (по формуле Толстого о прозе Леонида Андреева); разумную недоговорённость, когда деталь сообщает больше, чем последовательно усиливаемая «чернушность» сюжета. Но остаётся главная антитеза поэтического мира «Свалки…»: мир до разрушения и детализируемый процесс его слома. «Смытое», «отброшенное» лицо становится лейтмотивом книги, этот мотив привносит особую ноту зверски растоптанного мира. Здесь внутри сборника присутствует некоторый конфликт — «хоррорные» тексты наиболее запоминаются, тот же «Пикник» с его сдержанностью почти наверняка не останется в памяти, но мнемоничность стихотворений первого типа порой на грани формульности «Жутких детских страшилок». В этой формульности ощущается приём, угрожающий перейти в самоповтор. Однако в отдельных моментах и восхищаешься тем, как садистическое нагнетание доходит до цветаевского радикализма — вбрасывая на страницы книги энергичный заряд юмора и безумия, а в итоге — говоря о неуютной сущности человеческого. Читая стихотворение «Мишка», невозможно не вспомнить и сами истории пыток, и, например, известный перформанс Марины Абрамович «Ритм 0»3. Детская жестокость оказывается здесь прощупыванием мира («…так каждый щупал, / Проверял на прочность мир, / Где ловушки и капканы / В нём, где хлещет кровь из раны, / Пустота растёт из дыр»); Мишка — центральный образ книги, тот самый человек Матросова, изнасилованный и выпотрошенный, оставшийся лелеять детские воспоминания.
Мы отпилим скоро руки,
Зубы вышибем ему,
Чтоб он помнил эти муки,
Их с собой унёс во тьму.
Мишка мучился шесть суток…
Сдохни, плюшевый ублюдок!
«Свалка манекенов» заостряет вопросы о современной поэзии, о её существовании — в совокупности с этикой и вне этого понятия; в органичном сотрудничестве с прозой — и в конфликте с ней как принципиально иным типом сознания. Сюжеты Матросова, тяготея к гибридной «прозопоэзии» («проэзии», сказал бы Юрий Казарин) и принимая на себя все тяготы подобного гибрида, в равной мере могут вызвать реакцию из серии «один шаг до графомании» и «такого уникального голоса не было в современной литературе». Аргументы находятся в пользу и того, и другого, но второе всё же побеждает. Возможно, как раз не без присутствия первого с этой порой очаровательной, порой режущей «антилитературностью».
Отдельно можно было бы затронуть вопрос о восприятии книги разными типами читателей. На мой взгляд, здесь она зависает в некоей «промежуточной» зоне. «Новаторам» все эти нарративные пятистопные ямбы покажутся слишком инерционными; более внимательные критики, напротив, скажут о «скрытом новаторстве» (термин Артёма Скворцова, адресата одного из стихотворений в книге), которое относится не к форме — а к уникальной тематике. Явных консерваторов, напротив, шокирует её тематический спектр. Но даже игнорируя этих «консерваторов», невозможно не заметить, что на фоне стремительно пуританизирующегося времени книга уже смотрится каким-то экзотом из прошлого: часть её сюжетов выглядит для современной поэзии весьма смело.
Думаю, тем хуже для времени — и лучше для книги Матросова.
______________
[1] «Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля — на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом». Нина Берберова, «Курсив мой». Цит. по: https://vtoraya-literatura.com/pdf/berberova_kursiv_moi_1972__ocr.pdf
[2] См.: https://gorky.media/reviews/masterstvo-delat-bolno-bez-rezkix-ukolov
[3] См.: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9c8f49ed-691b9dac-b988cba0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rhythm_0
Борис Кутенков
«Груз 200» от современной поэзии
Книга эта, конечно, не для слабонервных. В беспощадном описании жутких сторон реальности Константин Матросов может дать фору и Ходасевичу с его «ножом под лиловатым, ещё девическим соском», и нашей современнице Лиде Юсуповой, а из кинематографа вспоминаются «чернушные» картины Андрея Звягинцева — прежде всего «Нелюбовь» и «Левиафан» — и Алексея Балабанова, в первую очередь «Груз 200». В одном из стихотворений появляется выпотрошенный и запуганный мишка из стихотворения Агнии Барто, над которым происходит жестокая расправа; в другом — под шиной хрустит «труп лисы», а что творится внутри стиральной машины — лучше и не рассказывать. Было бы неверным, однако, сводить книгу только к хоррору и сознательно форсируемому эффекту — но эти два спутника здесь не ходят один без другого. Матросов прекрасно осознаёт, что делает с читателем и его восприятием, обычно не нацеленным на смакование «неприятных» подробностей:
Всё на помойке. Вот лежит старик.
Течёт по трубке вязкая глюкоза.
Читатель ждёт, конечно, рифмы «роза», —
Возьми и слушай их предсмертный крик
И хрип окоченевших от наркоза.
Рифмы «роза» не ждём — ещё и потому что эстетика в поэзии не новая: удивить читателя, кроме совсем уж наивного, сложно, он видал виды. Кроме уже упомянутых имён, тут в равной мере можно повести вектор размышлений хоть к Слуцкому с его «Кёльнской ямой», хоть — из современников — к Елене Фанайловой, а из прозаиков не обойтись без параллелей с Романом Сенчиным. И всё же дело не в стремлении продолжить традицию «русской хтони» или произвести эффект. Одно из стихотворений, о найденной «овце с окоченевшими ногами», даёт ключ к этой двери: Матросов — поэт, принимающий на себя ужас мира, его вибрации, остро чувствующий соположение беспечной тишины — и убийства, совершаемого в ней. Поэтому из всех упомянутых прежде всего узнаётся Ходасевич с его «планетарным» восприятием реальности — именно этого поэта (апеллируя к воспоминаниям Нины Берберовой1) можно назвать предшественником нашего автора — не только в контексте грубой прозаизации, возгонки стиха «сквозь прозу», но и в смысле особого мироощущения, где за обыденностью — ощущаемый всей кожей апокалипсис. Вот, казалось бы, что за дело частному человеку до судьбы той же овцы — однако в финале стихотворения появляется не только она, но и окружающий её смерть незримый жуткий морок, принимаемый обывателем за спокойствие:
И не сама она была страшна,
И не тяжёлый морок снегопада,
А наступившая вдруг тишина,
Которой всё в округе было радо.
Стихи эти побуждают читать себя двойным зрением. С одной стороны, конечно, много штампов и языковых неловкостей: некоторые из них уже были отмечены Львом Обориным в рецензии на «Горьком» (правда, с тем, что листья не падают на рельсы, не согласились, кажется, все, с кем обсуждал это2). Нарратив как бы перетягивает на себя одеяло и не всегда побуждает справляться с коварной ситуацией метра (в основном регулярного) и образа, втискиваемого в эти объятья, — оттого появляются деепричастие «вяжа», инверсии («как малую я родину любил!») и прочее, на чём невозможно не заострить внимание. Здесь не хватило не столько поэтической, сколько редакторской работы — человека, который бы отметил на полях книги или подборки неправильные ударения и странности вроде «душа тела обжившая» (обжившая тело? Или всё же не хватает запятой, обрамляющей причастный оборот, — но тогда возникает несоответствие единственного числа «души» и множественного «тела»). При этом именно неловкости и проходные речевые конструкции (для радикально настроенного критика их будет даже чрезмерно много: «как вкопанный», «скоропостижно скончался», «снег долетал тоскливо до земли») создают естественность интонации: без них этот язык, честный в каждом слове, утерял бы привкус детской непосредственности. Все отмеченные недостатки — продолжение достоинств: они как будто даже и не противоречат художественной речи, а порой и организуют её, действуют на «минус-приёме» абсолютного отсутствия литературности. Нечастая ситуация в современной поэзии, которая побуждает вспомнить о её «наивном» векторе — но с ним, думаю, у Матросова мало стилистических параллелей.
По-разному можно посмотреть и на ситуацию пресловутой «надежды» — а ведь в пренебрежении ею непременно упрекнут автора те, кто любит подходить к стихам с позиции этики, те, о ком можно сказать словами Державина: «Поэзия тебе любезна, / Приятна, сладостна, полезна, / Как летом вкусный лимонад». Наиболее слабыми получаются моменты, где Матросов пытается воссоздать эту надежду, как бы уравновешивая хтоническую картину: «Назавтра всё же вальдшнепа найдут / Лежащего среди густой осоки… / День будет ветром осени продут, / Но вместе с тем — и тёплым на припёке…». Исключение, пожалуй, «Визит», выдержанный в стилистике сослагательного наклонения, вновь напоминающий Ходасевича («Уж лучше бы — я еле смею / Подумать про себя о том — / Попасться бы тебе злодею / В пустынной роще, вечерком…»). Здесь эстетика сна ведёт к неоднозначности — герой остаётся во сне, видя исключительно в нём происходящий кошмар, оттого «счастье» в финале получается неподдельным. Но этот кошмар происходит и наяву — и такая неоднозначность, безусловно, «на руку» поэтическому тексту.
Я слышал ночью: кто-то дёрнул ручку
И долго шаркал у двери входной.
Проникнув в дом, он бы забрал получку
И ей не ограничился одной.
Он вскрыл бы мне опасной бритвой горло
И долго бы насиловал жену.
Он носит в сумке хлороформ и свёрла,
И фомку проржавевшую одну.
Он книги повалил бы с полок на пол,
Порвал семейный бы фотоальбом,
Следами крови все ковры заляпал
И всё перевернул бы кверху дном.
А может, это пьяный алкоголик,
Который перепутал свой подъезд.
Какой-то игровой забытый нолик,
Которому поставят скоро крест.
А может, прошлый житель по привычке,
В любви на новом месте невезуч,
Под мухой, смогший прочь откинуть спички,
Не смогший вставить в скважину свой ключ.
Он в дом вошёл бы сдуру, по ошибке,
И тоже полоснул по горлу мне…
А я бы спал, расплывшийся в улыбке,
И счастлив был, что остаюсь во сне.
Спектр «непоэтических» предметов в поэзии Матросова широк — отдельно хочется отметить эпизоды, где человек «пойман» в момент перехода границы, будь то момент самообнажения или разбуженность котом. Все эти истории автор с очаровательной беспардонностью укладывает в структуру нарратива; они работают на обаяние книги — и показывают безграничность возможностей разговора.
Безграничность — вплоть до откровенной физиологии. Физиологизм, уже отмеченный в критике о Матросове, здесь и невинно-телесного, и «палаческого» свойства. Но авторское наслаждение ужасами не всегда способствует эстетическому эффекту, а, условно говоря, порой только помогает срежиссировать очередного «Фредди Крюгера». И тут речь не об излишне нежном читателе или зрителе (хотя прекрасно помню, сколь травмирующее впечатление производил тот же «Крюгер» на меня шестилетнего), но о том, что порой не остаётся ничего, кроме тошнотворности. К тому же в какой-то момент, читая «Качели» с их невинным началом («Ни минуты не печалясь / (Мину грустную сострой), / Много лет назад качались / На качелях брат с сестрой»), уже понимаешь, что нагнетаемый хоррор перейдёт в предсказуемый ужас, а с ним и в эстетическую предсказуемость. И ожидания, увы, оправдываются.
Брат с сестрой стоят, неловки,
И свисают до земли
С перекладины верёвки,
Две верёвки, две петли.
Определённое разнообразие в эту сюжетику привносят стихи, где сюжет прерывается метафизической загадкой. Часто она выражена в форме риторического вопроса:
Я долго проводил в уме подсчёты,
И понял, что никто здесь ни при чём.
Но кто же, кто, поднявший руку, кто ты
Там — за моим плечом?
Подобная загадка в некоторых текстах разрешается повтором — так, болезненно произносимое вновь и вновь «Я что-то видел подо льдом…», отсылая к знаменитому тексту Роберта Фроста в переводе Григория Дашевского и его рефренному «И ехать долго: путь далёк…», превращается уже в самостоятельную сущность, возникает в ореоле навязчивого видения. Сюда же можно отнести и «шелухи» из соответствующе озаглавленного текста. Этот мотив назойливо повторяемого, галлюцинаторного прозрения иногда создаёт и крепкую звуковую основу, превращается в гипнотизирующий рефрен. Всё это нередко соседствует с внезапным ночным пробуждением: строки Гандлевского «Я жил и в собственной кровати / Садился вдруг во тьме ночной…» явно не прошли мимо автора и стали межтекстовым импульсом для собственных образов.
Ночью сядешь в кровати невесть почему,
Силуэты размыты и звуки тихи.
И сидишь, тыча пальцем куда-то во тьму,
Бормоча «шелухи, шелухи, шелухи».
В лучших же текстах автономная жизнь вещей отсылает скорее к обэриутству — и даже радикализирует его приёмы, если говорить именно о беспощадности отношений с миром. Некоторые стихотворения, как, например, «Пикник», наглядно опираются на «Столбцы» Заболоцкого, привнося что-то своё. Думаю, что это «своё» — то самое усиление жути в процессуальности трещащего по швам, когда-то благоразумно устроенного порядка:
На праздник в детстве всё ещё в порядке:
Просторно и уютно на Земле.
Пока ещё никто в стигийской мгле
Не вздумал поиграть со мною в прятки.
Шампанское плюётся на столе,
Трясясь в эпилептическом припадке.
Опасный вяз положен на лопатки.
Картошка запекается в золе.
И наплевать, что наша плоть — лишь клетки.
Мы молоды, красивы и сильны.
Антоновка стоит средь тишины,
Трепещут листья, как марионетки.
Паук почуял дрожь тугой струны,
Распространяющуюся по сетке.
Корова, гложа флегматично ветки,
Случайно отъедает пол-луны.
«Пикник» вообще кажется одним из сильнейших стихотворений в книге — подача вещи здесь на грани с волшебством. Именно оно воплощает то, к чему стремится сам поэтический мир Матросова, — сдержанный разговор через многозначную метафору, а не через «он пугает, а мне не страшно» (по формуле Толстого о прозе Леонида Андреева); разумную недоговорённость, когда деталь сообщает больше, чем последовательно усиливаемая «чернушность» сюжета. Но остаётся главная антитеза поэтического мира «Свалки…»: мир до разрушения и детализируемый процесс его слома. «Смытое», «отброшенное» лицо становится лейтмотивом книги, этот мотив привносит особую ноту зверски растоптанного мира. Здесь внутри сборника присутствует некоторый конфликт — «хоррорные» тексты наиболее запоминаются, тот же «Пикник» с его сдержанностью почти наверняка не останется в памяти, но мнемоничность стихотворений первого типа порой на грани формульности «Жутких детских страшилок». В этой формульности ощущается приём, угрожающий перейти в самоповтор. Однако в отдельных моментах и восхищаешься тем, как садистическое нагнетание доходит до цветаевского радикализма — вбрасывая на страницы книги энергичный заряд юмора и безумия, а в итоге — говоря о неуютной сущности человеческого. Читая стихотворение «Мишка», невозможно не вспомнить и сами истории пыток, и, например, известный перформанс Марины Абрамович «Ритм 0»3. Детская жестокость оказывается здесь прощупыванием мира («…так каждый щупал, / Проверял на прочность мир, / Где ловушки и капканы / В нём, где хлещет кровь из раны, / Пустота растёт из дыр»); Мишка — центральный образ книги, тот самый человек Матросова, изнасилованный и выпотрошенный, оставшийся лелеять детские воспоминания.
Мы отпилим скоро руки,
Зубы вышибем ему,
Чтоб он помнил эти муки,
Их с собой унёс во тьму.
Мишка мучился шесть суток…
Сдохни, плюшевый ублюдок!
«Свалка манекенов» заостряет вопросы о современной поэзии, о её существовании — в совокупности с этикой и вне этого понятия; в органичном сотрудничестве с прозой — и в конфликте с ней как принципиально иным типом сознания. Сюжеты Матросова, тяготея к гибридной «прозопоэзии» («проэзии», сказал бы Юрий Казарин) и принимая на себя все тяготы подобного гибрида, в равной мере могут вызвать реакцию из серии «один шаг до графомании» и «такого уникального голоса не было в современной литературе». Аргументы находятся в пользу и того, и другого, но второе всё же побеждает. Возможно, как раз не без присутствия первого с этой порой очаровательной, порой режущей «антилитературностью».
Отдельно можно было бы затронуть вопрос о восприятии книги разными типами читателей. На мой взгляд, здесь она зависает в некоей «промежуточной» зоне. «Новаторам» все эти нарративные пятистопные ямбы покажутся слишком инерционными; более внимательные критики, напротив, скажут о «скрытом новаторстве» (термин Артёма Скворцова, адресата одного из стихотворений в книге), которое относится не к форме — а к уникальной тематике. Явных консерваторов, напротив, шокирует её тематический спектр. Но даже игнорируя этих «консерваторов», невозможно не заметить, что на фоне стремительно пуританизирующегося времени книга уже смотрится каким-то экзотом из прошлого: часть её сюжетов выглядит для современной поэзии весьма смело.
Думаю, тем хуже для времени — и лучше для книги Матросова.
______________
[1] «Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля — на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом». Нина Берберова, «Курсив мой». Цит. по: https://vtoraya-literatura.com/pdf/berberova_kursiv_moi_1972__ocr.pdf
[2] См.: https://gorky.media/reviews/masterstvo-delat-bolno-bez-rezkix-ukolov
[3] См.: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9c8f49ed-691b9dac-b988cba0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rhythm_0
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru