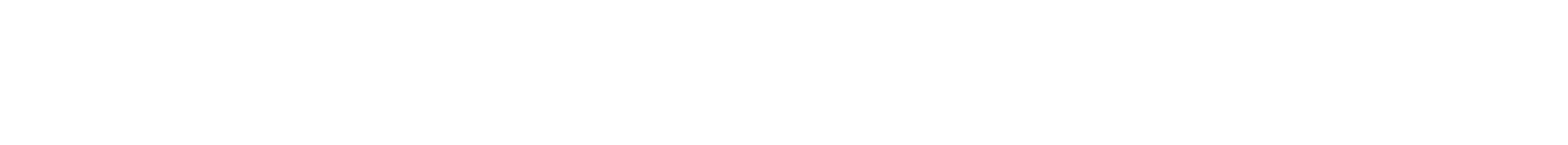Впервые опубликовано в журнале «Кварта».
Что происходит с текстом, когда он переходит из виртуальности на бумагу? Не только смайлики, скобки и другие привычные пользователям «новые правила пунктуации в сети» опускаются. Совершается переключение с клипового поглощения информации на книжное — с загибанием страниц и подчёркиванием мест. Литературоцентричная жизнь критика, поэта и культуртрегера Бориса Кутенкова сама по себе интересна: вместо «варил сегодня пельмени и гладил кота» он пишет о чтении дневников Лидии Чуковской, о проекте «Полёт разборов», о молодых поэтах, преемственности и иерархичности в литпроцессе. О нетривиальных путях к читателю, учителях, тенденциях, о юродивых от поэзии с их «физически исторгаемым светом», но главное — о непредсказуемости поэтического гения и умении критика разглядеть будущий прорыв в безыскусных стихах начинающего автора:
«в нас слишком действует убийственная сила соответствия, критериальность, жажда сверки с „контекстом“, стремление разложить всё по полочкам (без этого ничего невозможно понять, но, видимо, надо ещё и уметь видеть сквозь)».
Книг подобного жанра и формата не существовало ранее: это первая ласточка. Она объединила под голубой обложкой с белым самолётиком ворох разных заметок из сетевого дневника, написанных в разное время и в разном состоянии духа. По сути, это учебник, который не составлен как учебник. Для кого он? Для начинающего критика, только вникающего в контекст или освоившего его под определённым углом, для поэтов, состоявшихся и не совсем. Для людей, которые хотят разобраться в понятии «современный литературный процесс».
Всего в книге три раздела. В первом, озаглавленном как «57 писем молодому автору», собраны эссе-рассуждения по поводу разных литературных явлений — от локальных мыслей о персоналиях прошлого и поэтике молодых до самоаналитических — по поводу странной любви к поп-музыке и бульварному чтиву.
В итоге возникает портрет литературы сегодняшней — ещё непричёсанный, не систематизированный и тем ценный.
Борис Кутенков ведёт не центральными улицами, но своими самопознающими тропами, не становясь на позицию старшего брата или учителя. Тем не менее «погружение» на глубину происходит: и оказывается, что в литературе нет чёткой критериальности в оценках хорошего и плохого текста, но есть вкусовщина и, по выражению известного критика Елены Погорелой, «коррупция дружбы». А ещё есть иерархическая модель отношения к имени, при которой автор, становясь заслуженным, бронзовеет при жизни (стоит ли и дальше трепетать перед именами и воспринимать их тексты не из сегодняшнего дня, опираясь на былое величие? — задаётся вопросом автор этой книги). Кроме того, есть ещё толстые литературные журналы, в какой-то степени за эту иерархию держащиеся, спорящие об издательских подходах с самиздатом нового типа, который делают «взбалмошные молодые люди». Автор стремится понять их и формулирует так: «возможно, речь о пространстве света, несомом малым сообществом» и далее: «Нам в этой реальности, видимо, жить».
Все эссе первой части постепенно «рисуют» образ автора — мелкими чертами, психологическими деталями (одинокий труженик, который ездит в провинцию и даже там задёргивает шторы от подступающих звуков мира). Ликов у него то ли два, то ли больше: критик Б. К. — так выражается некий обобщённый недоброжелатель, чей голос постоянно рядом с автором и побуждает к полемике, просто Боря (это чисто внутримонологовый голос — порой ворчливый, порой успокоительный, возможно, более взрослый по отношению к автору дневника).
Неминуем в таком расслоении на голоса и анализ собственного положения в литературе. Борис Кутенков рассуждает о «промежуточном статусе»: вроде бы есть определённый вес, страница в Википедии, много делает. При этом близок к кругам молодых авторов, запросто и без «понтов» говорит с ними, не может представить себя «большой шишкой» и признаётся, что не хочет строить личный бренд — это «сузит» проявление естества. Позиция заведомо стоическая. Думается, само ощущение пограничности статуса иллюстрирует постоянное внутреннее изменение, по крайней мере, стремление к нему.
Показательно в этом плане обращение к «старшим»: «Не прислушиваться, не иметь в виду младших — пребывать в неадекватной реальности».
Надо сразу оговориться, что книга не призывает «бросить с корабля современности» всех когда-то заслуженных и именитых. Кутенков, родившийся ещё в советской России, понимает молодых с их скептическим отношением к авторитетам, но свою позицию формулирует так: «Встречи с людьми литературы, которые сильно старше, — компенсация внутренней тоски по советскому мифу <...>. Внутреннее эгоцентрическое ощущение долгой жизни и литературы, и себя в ней. Некое привставание на цыпочки, взгляд как будто из укрупнённого настоящего — увеличенного на знание этих „паролей“».
Рассуждения в книге даются будто бы из переносимого на бумагу сократического диалога с самим собой, из постоянного сомнения в адекватности восприятия. По мере чтения вопросы, задаваемые автором себе, прорастают в сознании так, что и у читателя включается внутренний критик. Книга превращается в руководство по проведению личного психотренинга — через бесконечное задавание вопросов «как?», «почему?» и «должны ли быть другие, как я?». Этому способствуют даже вкрапления в эссеистику отдельных молитвенных вставок, отсылающих к мемуаристике и исповедальной прозе:
«Господи, дай мне силы найти время и не потерять мотивацию для уединённого творчества, для поэзии в этой вечной беготне; не слишком радоваться этой иллюзорной „востребованности“ — приглашениям куда-то читать, выступать едва ли не каждый день — и чаще отшвыривать эти приглашения ради уединённой жизни и ради поэзии, так мало значащей, столь ничтожной на этом грёбаном „социальном“ уровне».
В одной из заметок он называет себя «юродивым проповедником», что понимается как миссия одинокая и довольно стоическая: писать о безвременно ушедших поэтах, о настоящем, о людях и явлениях, не опираясь на вкусы величин и организаций. Думается, что эта проповедь — не в пустыне, есть те, кто пойдёт за ним, то есть, что парадоксально, сверяясь с ним — неминуемо пойдёт своим путём. Путь этот будет порой горек, с мысленными откатами в детство, в ощущение сизифова труда. В эссе «Культуртрегер и кукурузные палочки» Кутенков объясняет самому себе, что не все люди готовы участвовать в мероприятиях, писать и говорить о других, делать то же, что и он. Беззащитность одинокого труда в том, что рассчитывать на всеобщую поддержку нельзя: на праздник с кукурузными палочками и молоком, как на вечер очередного найденного гения, может не прийти никто.
Во втором разделе — «Джедай с лопатою света» — даётся собранье пёстрых глав, казалось бы, хаотичное: «впечатления от просмотра литературных передач и посещения мероприятий, эссе о соотношении искусства и гражданственности, отвлечённые личные истории», заметки о природе мемуарного жанра и эзопова языка. В название взята метафора из стихотворения Анны Русс — о дворнике, который каждый день расчищает отведённый ему участок земли. Возделывание лужайки превращается в своего рода спасающий ритуал: «Но если весь мир рухнет, я, безусловно, буду работать под обломками», — признаётся автор. Каждое эссе в этом разделе как будто бы в большей степени говорит о жизни помимо литературы, выбивается за лист бумаги. Первый блок задаётся вопросами, второй — постепенно пытается на них ответить, автор в нём всё так же держит читателя за руку, всё так же показывает «город и его окрестности». Так, например, рассуждения из первой части о том, что гениальность ходит по границе канона, продолжаются мыслью о том, кто вообще способен создать шедевр:
«вечный вопрос, делают ли подлинную поэзию именно литературоцентристы или дух веет, где хочет, прорываясь, и эти прорывы духа как раз более подлинны, чем постоянная сосредоточенность, „функция“, миссия, ощущение себя в границах».
Обрисовывается своего рода проблема: люди с филологическим образованием слишком укоренены в своей среде, хоть и обладают вкусом, инструментарием, умением «делать стихи». Этого часто оказывается мало, чтобы сотворить чудо. Остаётся, признаётся автор, ездить в провинцию, смотреть на живых людей, напитываться, слушать непричёсанную нормой речь. Но предлагается и собственное решение на справедливо возникающий «в среде» вопрос — «Что делать?» (вернее: как, варясь в литтусовке и будучи человеком книжным, что-то настоящее всё-таки написать):
«...собственные стихи давно уже связаны для меня не со спонтанностью вдохновения, а со сверхусилием, необходимостью „специально“ загнать себя в это состояние — и в какой-то момент, после многих попыток выдавливания, „стихи свободно потекут“. И без этих сверхусилий стихи бы не писались».
И таких вопросов, ответы на которые даются смутно, по-своему, но честно, в этом разделе множество. Вот некоторые из них: что даёт опыт чтения со сцены своих и чужих стихов; так ли важно помимо писания быть ещё и учителем для других; почему из стихов «на тему» куда-то испаряется поэзия; где граница между поэтом и графоманом, и т. д. Оттеняют «литературу» странные, а порой мистические истории: про одноклассника, с которым автор не общался много лет и вспомнил о нём, а затем случайно узнал, что тот недавно погиб, или про стихи или прозу, приходящие во сне, записать которые невозможно.
Третий раздел — «О классиках и современниках» открывается эссе о Сомерсете Моэме, и здесь, как и в предыдущих заметках, литература — лишь повод к общению с реальностью: герои английского писателя проявляются в буднях автора этой книги, но уже скорее как типы личности. Искусство переплетается с жизнью и заставляет пересмотреть границы нравственности (хороший поэт может оказаться несоизмерим с земными привязанностями, не способен на них, что доставляет боль людям вокруг). Показателен эпизод разрыва с другом, мысленно обращаясь к которому, автор говорит:
«Ты — моэмовский Стрикленд: говоришь, что можешь без всего, и тут же по-детски просишь денег. Но искусство — это ты, и оно — в тебе».
И далее все рассуждения о литературе — повод сказать о сегодняшнем дне, задуматься о нём, как о ежедневно творимом контексте. Упоминаются здесь и персоналии Серебряного века, и ныне живущие авторы. Проводя сквозь эту толщу голосов, теней, текстуальных пространств и лакун, автор книги превращается из проводника в собеседника: учит, не преследуя цели учить.
И получается так, что книга эта дарит критика вне имени её автора, вне его эстетических взглядов. Она даёт каждому читателю своего Вергилия в мире литературы, своего внутреннего неусыпного критика за правым плечом.
Марина Марьяшина
Другого мне Вергилия не надо
Что происходит с текстом, когда он переходит из виртуальности на бумагу? Не только смайлики, скобки и другие привычные пользователям «новые правила пунктуации в сети» опускаются. Совершается переключение с клипового поглощения информации на книжное — с загибанием страниц и подчёркиванием мест. Литературоцентричная жизнь критика, поэта и культуртрегера Бориса Кутенкова сама по себе интересна: вместо «варил сегодня пельмени и гладил кота» он пишет о чтении дневников Лидии Чуковской, о проекте «Полёт разборов», о молодых поэтах, преемственности и иерархичности в литпроцессе. О нетривиальных путях к читателю, учителях, тенденциях, о юродивых от поэзии с их «физически исторгаемым светом», но главное — о непредсказуемости поэтического гения и умении критика разглядеть будущий прорыв в безыскусных стихах начинающего автора:
«в нас слишком действует убийственная сила соответствия, критериальность, жажда сверки с „контекстом“, стремление разложить всё по полочкам (без этого ничего невозможно понять, но, видимо, надо ещё и уметь видеть сквозь)».
Книг подобного жанра и формата не существовало ранее: это первая ласточка. Она объединила под голубой обложкой с белым самолётиком ворох разных заметок из сетевого дневника, написанных в разное время и в разном состоянии духа. По сути, это учебник, который не составлен как учебник. Для кого он? Для начинающего критика, только вникающего в контекст или освоившего его под определённым углом, для поэтов, состоявшихся и не совсем. Для людей, которые хотят разобраться в понятии «современный литературный процесс».
Всего в книге три раздела. В первом, озаглавленном как «57 писем молодому автору», собраны эссе-рассуждения по поводу разных литературных явлений — от локальных мыслей о персоналиях прошлого и поэтике молодых до самоаналитических — по поводу странной любви к поп-музыке и бульварному чтиву.
В итоге возникает портрет литературы сегодняшней — ещё непричёсанный, не систематизированный и тем ценный.
Борис Кутенков ведёт не центральными улицами, но своими самопознающими тропами, не становясь на позицию старшего брата или учителя. Тем не менее «погружение» на глубину происходит: и оказывается, что в литературе нет чёткой критериальности в оценках хорошего и плохого текста, но есть вкусовщина и, по выражению известного критика Елены Погорелой, «коррупция дружбы». А ещё есть иерархическая модель отношения к имени, при которой автор, становясь заслуженным, бронзовеет при жизни (стоит ли и дальше трепетать перед именами и воспринимать их тексты не из сегодняшнего дня, опираясь на былое величие? — задаётся вопросом автор этой книги). Кроме того, есть ещё толстые литературные журналы, в какой-то степени за эту иерархию держащиеся, спорящие об издательских подходах с самиздатом нового типа, который делают «взбалмошные молодые люди». Автор стремится понять их и формулирует так: «возможно, речь о пространстве света, несомом малым сообществом» и далее: «Нам в этой реальности, видимо, жить».
Все эссе первой части постепенно «рисуют» образ автора — мелкими чертами, психологическими деталями (одинокий труженик, который ездит в провинцию и даже там задёргивает шторы от подступающих звуков мира). Ликов у него то ли два, то ли больше: критик Б. К. — так выражается некий обобщённый недоброжелатель, чей голос постоянно рядом с автором и побуждает к полемике, просто Боря (это чисто внутримонологовый голос — порой ворчливый, порой успокоительный, возможно, более взрослый по отношению к автору дневника).
Неминуем в таком расслоении на голоса и анализ собственного положения в литературе. Борис Кутенков рассуждает о «промежуточном статусе»: вроде бы есть определённый вес, страница в Википедии, много делает. При этом близок к кругам молодых авторов, запросто и без «понтов» говорит с ними, не может представить себя «большой шишкой» и признаётся, что не хочет строить личный бренд — это «сузит» проявление естества. Позиция заведомо стоическая. Думается, само ощущение пограничности статуса иллюстрирует постоянное внутреннее изменение, по крайней мере, стремление к нему.
Показательно в этом плане обращение к «старшим»: «Не прислушиваться, не иметь в виду младших — пребывать в неадекватной реальности».
Надо сразу оговориться, что книга не призывает «бросить с корабля современности» всех когда-то заслуженных и именитых. Кутенков, родившийся ещё в советской России, понимает молодых с их скептическим отношением к авторитетам, но свою позицию формулирует так: «Встречи с людьми литературы, которые сильно старше, — компенсация внутренней тоски по советскому мифу <...>. Внутреннее эгоцентрическое ощущение долгой жизни и литературы, и себя в ней. Некое привставание на цыпочки, взгляд как будто из укрупнённого настоящего — увеличенного на знание этих „паролей“».
Рассуждения в книге даются будто бы из переносимого на бумагу сократического диалога с самим собой, из постоянного сомнения в адекватности восприятия. По мере чтения вопросы, задаваемые автором себе, прорастают в сознании так, что и у читателя включается внутренний критик. Книга превращается в руководство по проведению личного психотренинга — через бесконечное задавание вопросов «как?», «почему?» и «должны ли быть другие, как я?». Этому способствуют даже вкрапления в эссеистику отдельных молитвенных вставок, отсылающих к мемуаристике и исповедальной прозе:
«Господи, дай мне силы найти время и не потерять мотивацию для уединённого творчества, для поэзии в этой вечной беготне; не слишком радоваться этой иллюзорной „востребованности“ — приглашениям куда-то читать, выступать едва ли не каждый день — и чаще отшвыривать эти приглашения ради уединённой жизни и ради поэзии, так мало значащей, столь ничтожной на этом грёбаном „социальном“ уровне».
В одной из заметок он называет себя «юродивым проповедником», что понимается как миссия одинокая и довольно стоическая: писать о безвременно ушедших поэтах, о настоящем, о людях и явлениях, не опираясь на вкусы величин и организаций. Думается, что эта проповедь — не в пустыне, есть те, кто пойдёт за ним, то есть, что парадоксально, сверяясь с ним — неминуемо пойдёт своим путём. Путь этот будет порой горек, с мысленными откатами в детство, в ощущение сизифова труда. В эссе «Культуртрегер и кукурузные палочки» Кутенков объясняет самому себе, что не все люди готовы участвовать в мероприятиях, писать и говорить о других, делать то же, что и он. Беззащитность одинокого труда в том, что рассчитывать на всеобщую поддержку нельзя: на праздник с кукурузными палочками и молоком, как на вечер очередного найденного гения, может не прийти никто.
Во втором разделе — «Джедай с лопатою света» — даётся собранье пёстрых глав, казалось бы, хаотичное: «впечатления от просмотра литературных передач и посещения мероприятий, эссе о соотношении искусства и гражданственности, отвлечённые личные истории», заметки о природе мемуарного жанра и эзопова языка. В название взята метафора из стихотворения Анны Русс — о дворнике, который каждый день расчищает отведённый ему участок земли. Возделывание лужайки превращается в своего рода спасающий ритуал: «Но если весь мир рухнет, я, безусловно, буду работать под обломками», — признаётся автор. Каждое эссе в этом разделе как будто бы в большей степени говорит о жизни помимо литературы, выбивается за лист бумаги. Первый блок задаётся вопросами, второй — постепенно пытается на них ответить, автор в нём всё так же держит читателя за руку, всё так же показывает «город и его окрестности». Так, например, рассуждения из первой части о том, что гениальность ходит по границе канона, продолжаются мыслью о том, кто вообще способен создать шедевр:
«вечный вопрос, делают ли подлинную поэзию именно литературоцентристы или дух веет, где хочет, прорываясь, и эти прорывы духа как раз более подлинны, чем постоянная сосредоточенность, „функция“, миссия, ощущение себя в границах».
Обрисовывается своего рода проблема: люди с филологическим образованием слишком укоренены в своей среде, хоть и обладают вкусом, инструментарием, умением «делать стихи». Этого часто оказывается мало, чтобы сотворить чудо. Остаётся, признаётся автор, ездить в провинцию, смотреть на живых людей, напитываться, слушать непричёсанную нормой речь. Но предлагается и собственное решение на справедливо возникающий «в среде» вопрос — «Что делать?» (вернее: как, варясь в литтусовке и будучи человеком книжным, что-то настоящее всё-таки написать):
«...собственные стихи давно уже связаны для меня не со спонтанностью вдохновения, а со сверхусилием, необходимостью „специально“ загнать себя в это состояние — и в какой-то момент, после многих попыток выдавливания, „стихи свободно потекут“. И без этих сверхусилий стихи бы не писались».
И таких вопросов, ответы на которые даются смутно, по-своему, но честно, в этом разделе множество. Вот некоторые из них: что даёт опыт чтения со сцены своих и чужих стихов; так ли важно помимо писания быть ещё и учителем для других; почему из стихов «на тему» куда-то испаряется поэзия; где граница между поэтом и графоманом, и т. д. Оттеняют «литературу» странные, а порой мистические истории: про одноклассника, с которым автор не общался много лет и вспомнил о нём, а затем случайно узнал, что тот недавно погиб, или про стихи или прозу, приходящие во сне, записать которые невозможно.
Третий раздел — «О классиках и современниках» открывается эссе о Сомерсете Моэме, и здесь, как и в предыдущих заметках, литература — лишь повод к общению с реальностью: герои английского писателя проявляются в буднях автора этой книги, но уже скорее как типы личности. Искусство переплетается с жизнью и заставляет пересмотреть границы нравственности (хороший поэт может оказаться несоизмерим с земными привязанностями, не способен на них, что доставляет боль людям вокруг). Показателен эпизод разрыва с другом, мысленно обращаясь к которому, автор говорит:
«Ты — моэмовский Стрикленд: говоришь, что можешь без всего, и тут же по-детски просишь денег. Но искусство — это ты, и оно — в тебе».
И далее все рассуждения о литературе — повод сказать о сегодняшнем дне, задуматься о нём, как о ежедневно творимом контексте. Упоминаются здесь и персоналии Серебряного века, и ныне живущие авторы. Проводя сквозь эту толщу голосов, теней, текстуальных пространств и лакун, автор книги превращается из проводника в собеседника: учит, не преследуя цели учить.
И получается так, что книга эта дарит критика вне имени её автора, вне его эстетических взглядов. Она даёт каждому читателю своего Вергилия в мире литературы, своего внутреннего неусыпного критика за правым плечом.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru