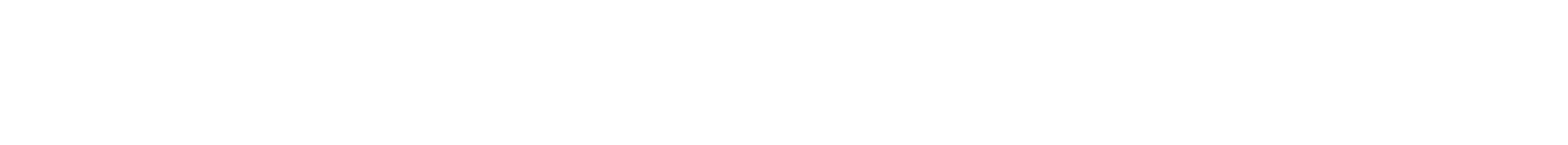Впервые опубликовано в журнале «Знамя».
Книга поэта, критика, литературтрегера Бориса Кутенкова, составленная из его эссеистических заметок в телеграм-канале, — по существу, личный и принципиально субъективный дневник: что ни суждение, то экзистенциальное высказывание, — ну, чуть преувеличиваю. Разве что — дневник, изначально открытый для внешнего прочтения, — ну так интенсивности рефлексии это только способствует. Субъективность — да, но это субъективность весьма опытного профессионала.
Как бы там ни было, о себе и своём тут очень-очень много (да практически всё), вплоть до отсылок к детскому опыту и детским травмам — из которых едва ли не напрямую выводятся автором собственные литературные пристрастия («…опрос для меня — самый любимый жанр в литературе, и проводить его — сущее наслаждение; это связано с какой-то праздничной возможностью усадить за один стол людей, которые никогда бы за ним не собрались. (И во всём этом есть что-то от 11-летнего мальчика, который в далёком 2001 году плакал, когда не удалось собрать детей на маленький праздник на поляне с молоком и кукурузными палочками, — к чему воодушевлённо готовился, — те, коварные, убежали играть в футбол.) Жизнь — вечная достоевская борьба с тем мальчиком и (по-достоевски же) его неизменная апология»).
Но это только потому, что литературу автор переживает как своё личное дело: прояснение себя, своих основ, ценностей, мотивов и всматривание в литературу для него — (почти?) одно и то же действие. Причём в литературу не столько даже как в совокупность текстов, но как в процесс, становление, захватываемое со многих сторон сразу: и личным наблюдением, и личным участием («…критик — это именно понимание контекста, в первую очередь, и сейсмических, подземных движений этого контекста, во вторую (Блок называл себя сейсмографом). Это чувство времени, которого, например, никогда не было у меня. С моей старомодностью, тягой к вневременному, увлечением персоналиями, некоторой дистанцией по отношению ко времени». Получается, что литература для автора даже важнее времени, — но это на уровне деклараций: судя по собранным в книгу эссе, ко времени он восприимчив куда более многих, просто видит его — через литературу. Отсюда и увлечение персоналиями — в которых время воплощено.
Из всех ныне обозреваемых книга Кутенкова наименее далека от претензий на систематичность (от выстраивания записей в хронологическом порядке автор, кстати, намеренно отказывается, хотя даты ставит), и наиболее, таким образом, свободна. «…[С]оставление подобных книг для меня, — поясняет такой принцип организации автор, — процесс, близкий сочинению стихотворения по непредсказуемости и эвристичности».
Это никоим образом не значит, что книга не структурирована. В ней три части, каждая — с внятной концепцией. В рамку, состоящую из частей первой, «57 писем молодому автору» (о литературной жизни в разных её обликах: поэзия молодых; семинары, педагогическая работа, проблемы анализа поэтического текста, обратная связь в современной литературе…) и третьей, «О классиках и современниках» («от Сомерсета Моэма до Татьяны Бек, от Платонова до Дмитрия Кузьмина, от Льва Толстого до Андрея Таврова»), вставлена вторая, в которой умышленная хаотичность достигает максимума и объемлет «всё, что не влезло в первую и третью»: «впечатления от просмотра литературных передач и посещения мероприятий, эссе о соотношении искусства и гражданственности, отвлечённые личные истории», размышления о природе мемуарного жанра и эзопова языка. Но на то она и хаотичность — особенно умышленная и подчёркнутая — чтобы отчётливее проступало то, что удерживает её вместе. И оно, конечно, проступает: это система (неважно, с какой степенью отчётливости и прямоты она сформулирована и сформулирована ли вообще) пристрастий и ценностей.
Задача, которую ставит себе автор, по видимости скромна: рассказать заинтересованной аудитории (в основном начинающим поэтам — пусть знают, что их ждёт) «о современном литературном быте „из первых рук“, от человека, максимально в него вовлечённого». Он, таким образом, как бы даже и не аналитик, а всего прежде свидетель-соучастник.
На самом деле он, конечно, аналитик (или так: свидетель, очень анализирующий). Притом аналитик многого сразу: и литературного быта, и собственно текстов, которые этот быт, наросши на них длинною бородою, почти неминуемо сопровождает, и через всё это — себя как человека, который всё это воспринимает, а во многом и создаёт собственными руками (тут, кстати, много сказано о переживаемой изнутри практике и этике литературтрегерского дела — со всеми этими регулярными обзорами периодики, изданием книг рано умерших поэтов и их презентациями, опросами, фестивалями, диалогами с коллегами, обсуждениями молодых авторов… где ещё такое прочитаешь?). Автор то и дело выходит за пределы собственно критики — высказываясь и об окраинах и окрестностях литературы как таковой, и об авторах, которые ни в какой критике как будто не нуждаются и к становлению современной русской словесности отношения не имеют, поскольку давно всё написали и умерли, да и прочитаны были с тех пор неоднократно (хоть Жан-Поль Сартр, хоть Давид Самойлов…). А между прочим: перечитывание давно написанного и не раз прочитанного — вот и Гулин не то же ли делает? — тоже ещё как участвует в становлении современной литературы. Оно формирует в ней поле внимания, влияет на характер этого внимания, на расстановку в нём акцентов. Всё это совершенно вписывается в задачу критики: искать текстам место в сегодняшней словесности — но и переопределять место тех, что написаны давно, устанавливать их значение (хоть бы и мимолётное!) здесь-и-сейчас, — притом средствами не истории и теории литературы (у них другие задачи), а именно журналистики и дневника, форматов летучих и работающих с расплавленным, обжигающим руки, ещё не определившимся материалом.
Во всяком случае, взгляд в результате получается изрядно объёмный.
(И кстати, подобно Владимиру Козлову, Кутенков тоже пишет о поэтических поколениях; интересно сравнить.)
Такая сеть как бы случайностей и произвольностей, сердца горестных замет и ума горячих, а то и прямо раскалённых наблюдений (а чего ждать другого, когда всё — здесь и сейчас, никакой дистанции, дневник же, не статьи какие-нибудь) — сеть, лишь кажущаяся легкой и воздушной, на самом же деле весьма плотная, — будучи накинута на громадно-необозримое тело литературы, не приближает ли нас к возможности охватить неохватное более всего?
Ольга Балла
Наблюдатель
Скоропись Ольги Балла
Книга поэта, критика, литературтрегера Бориса Кутенкова, составленная из его эссеистических заметок в телеграм-канале, — по существу, личный и принципиально субъективный дневник: что ни суждение, то экзистенциальное высказывание, — ну, чуть преувеличиваю. Разве что — дневник, изначально открытый для внешнего прочтения, — ну так интенсивности рефлексии это только способствует. Субъективность — да, но это субъективность весьма опытного профессионала.
Как бы там ни было, о себе и своём тут очень-очень много (да практически всё), вплоть до отсылок к детскому опыту и детским травмам — из которых едва ли не напрямую выводятся автором собственные литературные пристрастия («…опрос для меня — самый любимый жанр в литературе, и проводить его — сущее наслаждение; это связано с какой-то праздничной возможностью усадить за один стол людей, которые никогда бы за ним не собрались. (И во всём этом есть что-то от 11-летнего мальчика, который в далёком 2001 году плакал, когда не удалось собрать детей на маленький праздник на поляне с молоком и кукурузными палочками, — к чему воодушевлённо готовился, — те, коварные, убежали играть в футбол.) Жизнь — вечная достоевская борьба с тем мальчиком и (по-достоевски же) его неизменная апология»).
Но это только потому, что литературу автор переживает как своё личное дело: прояснение себя, своих основ, ценностей, мотивов и всматривание в литературу для него — (почти?) одно и то же действие. Причём в литературу не столько даже как в совокупность текстов, но как в процесс, становление, захватываемое со многих сторон сразу: и личным наблюдением, и личным участием («…критик — это именно понимание контекста, в первую очередь, и сейсмических, подземных движений этого контекста, во вторую (Блок называл себя сейсмографом). Это чувство времени, которого, например, никогда не было у меня. С моей старомодностью, тягой к вневременному, увлечением персоналиями, некоторой дистанцией по отношению ко времени». Получается, что литература для автора даже важнее времени, — но это на уровне деклараций: судя по собранным в книгу эссе, ко времени он восприимчив куда более многих, просто видит его — через литературу. Отсюда и увлечение персоналиями — в которых время воплощено.
Из всех ныне обозреваемых книга Кутенкова наименее далека от претензий на систематичность (от выстраивания записей в хронологическом порядке автор, кстати, намеренно отказывается, хотя даты ставит), и наиболее, таким образом, свободна. «…[С]оставление подобных книг для меня, — поясняет такой принцип организации автор, — процесс, близкий сочинению стихотворения по непредсказуемости и эвристичности».
Это никоим образом не значит, что книга не структурирована. В ней три части, каждая — с внятной концепцией. В рамку, состоящую из частей первой, «57 писем молодому автору» (о литературной жизни в разных её обликах: поэзия молодых; семинары, педагогическая работа, проблемы анализа поэтического текста, обратная связь в современной литературе…) и третьей, «О классиках и современниках» («от Сомерсета Моэма до Татьяны Бек, от Платонова до Дмитрия Кузьмина, от Льва Толстого до Андрея Таврова»), вставлена вторая, в которой умышленная хаотичность достигает максимума и объемлет «всё, что не влезло в первую и третью»: «впечатления от просмотра литературных передач и посещения мероприятий, эссе о соотношении искусства и гражданственности, отвлечённые личные истории», размышления о природе мемуарного жанра и эзопова языка. Но на то она и хаотичность — особенно умышленная и подчёркнутая — чтобы отчётливее проступало то, что удерживает её вместе. И оно, конечно, проступает: это система (неважно, с какой степенью отчётливости и прямоты она сформулирована и сформулирована ли вообще) пристрастий и ценностей.
Задача, которую ставит себе автор, по видимости скромна: рассказать заинтересованной аудитории (в основном начинающим поэтам — пусть знают, что их ждёт) «о современном литературном быте „из первых рук“, от человека, максимально в него вовлечённого». Он, таким образом, как бы даже и не аналитик, а всего прежде свидетель-соучастник.
На самом деле он, конечно, аналитик (или так: свидетель, очень анализирующий). Притом аналитик многого сразу: и литературного быта, и собственно текстов, которые этот быт, наросши на них длинною бородою, почти неминуемо сопровождает, и через всё это — себя как человека, который всё это воспринимает, а во многом и создаёт собственными руками (тут, кстати, много сказано о переживаемой изнутри практике и этике литературтрегерского дела — со всеми этими регулярными обзорами периодики, изданием книг рано умерших поэтов и их презентациями, опросами, фестивалями, диалогами с коллегами, обсуждениями молодых авторов… где ещё такое прочитаешь?). Автор то и дело выходит за пределы собственно критики — высказываясь и об окраинах и окрестностях литературы как таковой, и об авторах, которые ни в какой критике как будто не нуждаются и к становлению современной русской словесности отношения не имеют, поскольку давно всё написали и умерли, да и прочитаны были с тех пор неоднократно (хоть Жан-Поль Сартр, хоть Давид Самойлов…). А между прочим: перечитывание давно написанного и не раз прочитанного — вот и Гулин не то же ли делает? — тоже ещё как участвует в становлении современной литературы. Оно формирует в ней поле внимания, влияет на характер этого внимания, на расстановку в нём акцентов. Всё это совершенно вписывается в задачу критики: искать текстам место в сегодняшней словесности — но и переопределять место тех, что написаны давно, устанавливать их значение (хоть бы и мимолётное!) здесь-и-сейчас, — притом средствами не истории и теории литературы (у них другие задачи), а именно журналистики и дневника, форматов летучих и работающих с расплавленным, обжигающим руки, ещё не определившимся материалом.
Во всяком случае, взгляд в результате получается изрядно объёмный.
(И кстати, подобно Владимиру Козлову, Кутенков тоже пишет о поэтических поколениях; интересно сравнить.)
Такая сеть как бы случайностей и произвольностей, сердца горестных замет и ума горячих, а то и прямо раскалённых наблюдений (а чего ждать другого, когда всё — здесь и сейчас, никакой дистанции, дневник же, не статьи какие-нибудь) — сеть, лишь кажущаяся легкой и воздушной, на самом же деле весьма плотная, — будучи накинута на громадно-необозримое тело литературы, не приближает ли нас к возможности охватить неохватное более всего?
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru