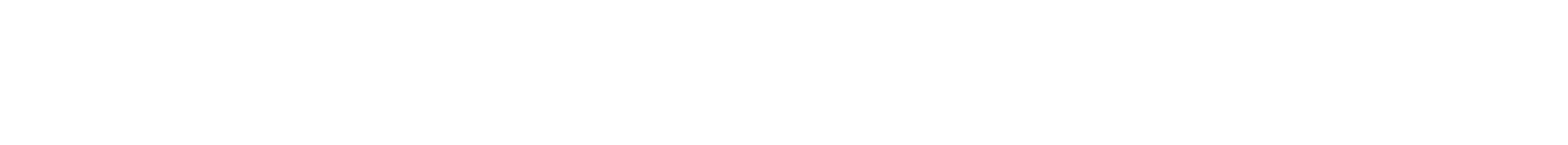Впервые опубликовано в журнале поэзии «Воздух».
Имя Бориса Кутенкова знакомо каждому, кто интересуется литературной критикой. Дело, впрочем, не только в обильном корпусе рецензий, статей и эссе: Кутенков — один из немногих критиков, системно работающих и в жанрах, жизненно важных для того самого полумифического литпроцесса: интервью, опросы, обзоры периодики и т. п. Жанрах до некоторой степени автоматических, не дающих особого пространства для демонстрации своей уникальности и потому заведомо неблагодарных. Возможно, именно поэтому сборник «писем о русской поэзии» Кутенкова (предельно личных, изложенных в эмоциональной манере, которая кому-то может показаться непрофессиональной) увидел свет раньше, чем, скажем, сборник его статей и рецензий — любовь к поэзии, подавляемая в формальных, технических текстах, потребовала какого-то выхода. Специфический сплав любовных «писем к поэзии» (экзальтированного пересказа чувств и размышлений, возникающих от того или иного стихотворения) и критико-аналитических замечаний с разборами конкретных строк в книге Кутенкова оставляет ощущение не гармонии, а борьбы, в которой экзальтация всё время побеждает. Ещё более странным кажется сочетание личных переживаний критика и постоянного апеллирования к абстрактным категориям вроде «надсловесного вещества» и «тайн лирики» — т. е. уход от личного в безопасную универсальность возвышенного разговора «о поэзии вообще». «Это книга о лучших или о любимых стихах?» — спрашивает автор сам себя в предисловии: кажется, перед нами попытка совместить то и другое. Но «лучшее» следует аргументировать не столько через отдельные замечания, сколько путём выстраивания целостной внутренней иерархии (её в «25 письмах» обнаружить не удаётся); «любимое» же вообще не нуждается в аргументации, и построчный разбор становится чужеродным элементом. «25 писем о русской поэзии» качественно передают состояние безраздельного восторга перед поэзией, что по-своему завораживает, — но он неизбежно влияет на аналитику, сбивает её прицел. В таком состоянии поэтические открытия мерещатся в самых обыденных строчках, и Борис Кутенков, к сожалению, не смог этой проблемы избежать. «Характерны и тонкие ассоциативные колебания в тексте Элтанг: „мы подождём пока беду не сплавят по реке“. В этом слышится даже какая-то оговорка, опечатка. Нормальным было бы как раз просить сплавить беду» — неужели критик никогда не сталкивался с речевыми формулами вида «мы подождём, пока он не уйдёт»? Схожим образом в строчке «Станет сын чужим и чужой жена» у Бориса Рыжего Кутенкову чудится сначала «нерусский выговор», а потом и Чужой с Хищником. «Ворчливая интонация, как бы отдаваемая стороннему герою в спектре полифонии голосов, притопывающая слегка комическим анжамбеманом („для босоножки“ — слышите в этом переносе стук каблука?), таким образом, оказывается антитезой и юношеской графомании, и графомании жизненной, — и в этом слышится поэтическая, едва ли не литературно-критическая рефлексия», — словом, в любовном исступлении критику всё время что-то слышится: видимо, читать эту книгу тоже следует в некотором трансе, что подходит далеко не каждому читателю (тем более — любителю критики). Реакция на книгу Бориса Кутенкова во многом определяется тем, каковы ваши представления о балансе между аналитикой и чувствами. На фоне всё большего проникновения в критику академико-филологического стиля «25 писем» найдут свою аудиторию, бегущую от трёхэтажных терминологических построений. Но неужели старомодная экзальтация — единственная альтернатива выхолощенной филологической критике? Мне кажется, между этими крайностями всё ещё возможно множество вариаций экспертной субъективности — огромное пространство для разговора о поэзии.
Максим Алпатов
Имя Бориса Кутенкова знакомо каждому, кто интересуется литературной критикой. Дело, впрочем, не только в обильном корпусе рецензий, статей и эссе: Кутенков — один из немногих критиков, системно работающих и в жанрах, жизненно важных для того самого полумифического литпроцесса: интервью, опросы, обзоры периодики и т. п. Жанрах до некоторой степени автоматических, не дающих особого пространства для демонстрации своей уникальности и потому заведомо неблагодарных. Возможно, именно поэтому сборник «писем о русской поэзии» Кутенкова (предельно личных, изложенных в эмоциональной манере, которая кому-то может показаться непрофессиональной) увидел свет раньше, чем, скажем, сборник его статей и рецензий — любовь к поэзии, подавляемая в формальных, технических текстах, потребовала какого-то выхода. Специфический сплав любовных «писем к поэзии» (экзальтированного пересказа чувств и размышлений, возникающих от того или иного стихотворения) и критико-аналитических замечаний с разборами конкретных строк в книге Кутенкова оставляет ощущение не гармонии, а борьбы, в которой экзальтация всё время побеждает. Ещё более странным кажется сочетание личных переживаний критика и постоянного апеллирования к абстрактным категориям вроде «надсловесного вещества» и «тайн лирики» — т. е. уход от личного в безопасную универсальность возвышенного разговора «о поэзии вообще». «Это книга о лучших или о любимых стихах?» — спрашивает автор сам себя в предисловии: кажется, перед нами попытка совместить то и другое. Но «лучшее» следует аргументировать не столько через отдельные замечания, сколько путём выстраивания целостной внутренней иерархии (её в «25 письмах» обнаружить не удаётся); «любимое» же вообще не нуждается в аргументации, и построчный разбор становится чужеродным элементом. «25 писем о русской поэзии» качественно передают состояние безраздельного восторга перед поэзией, что по-своему завораживает, — но он неизбежно влияет на аналитику, сбивает её прицел. В таком состоянии поэтические открытия мерещатся в самых обыденных строчках, и Борис Кутенков, к сожалению, не смог этой проблемы избежать. «Характерны и тонкие ассоциативные колебания в тексте Элтанг: „мы подождём пока беду не сплавят по реке“. В этом слышится даже какая-то оговорка, опечатка. Нормальным было бы как раз просить сплавить беду» — неужели критик никогда не сталкивался с речевыми формулами вида «мы подождём, пока он не уйдёт»? Схожим образом в строчке «Станет сын чужим и чужой жена» у Бориса Рыжего Кутенкову чудится сначала «нерусский выговор», а потом и Чужой с Хищником. «Ворчливая интонация, как бы отдаваемая стороннему герою в спектре полифонии голосов, притопывающая слегка комическим анжамбеманом („для босоножки“ — слышите в этом переносе стук каблука?), таким образом, оказывается антитезой и юношеской графомании, и графомании жизненной, — и в этом слышится поэтическая, едва ли не литературно-критическая рефлексия», — словом, в любовном исступлении критику всё время что-то слышится: видимо, читать эту книгу тоже следует в некотором трансе, что подходит далеко не каждому читателю (тем более — любителю критики). Реакция на книгу Бориса Кутенкова во многом определяется тем, каковы ваши представления о балансе между аналитикой и чувствами. На фоне всё большего проникновения в критику академико-филологического стиля «25 писем» найдут свою аудиторию, бегущую от трёхэтажных терминологических построений. Но неужели старомодная экзальтация — единственная альтернатива выхолощенной филологической критике? Мне кажется, между этими крайностями всё ещё возможно множество вариаций экспертной субъективности — огромное пространство для разговора о поэзии.
Не стесняйтесь, пишите!
E-mail:
v@gora-izdat.ru